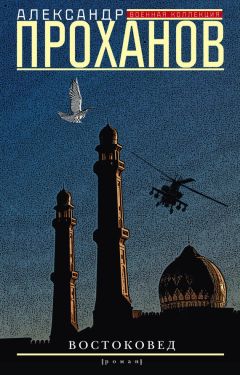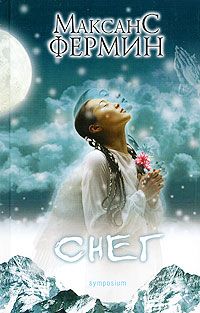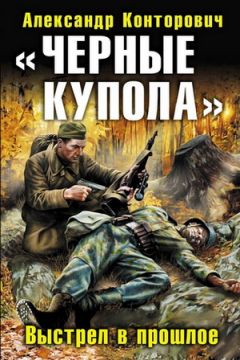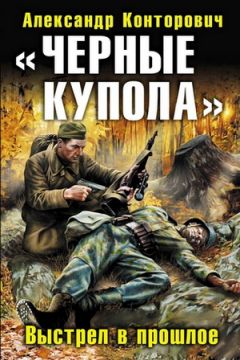Оператор с серьгой водил камерой вдоль борозды, оставленной пулями на фреске, ловил в объектив молодое восторженное лицо пулеметчика с черной бородкой и белым оскалом, переводил камеру на убитого священника, усыпанного латными гильзами.
Торобов потрясенной душой чувствовал чью-то грозную непостижимую волю, которая поместила его в ревущую лавину атаки, привела на гору, где состоялась жуткая казнь, а теперь принуждает смотреть, как разрушают святыню. И эта непостижимая воля – хочет ли она, чтобы ослепли его глаза, помутился рассудок и он утонул в безумной воронке зверств и насилий, в которую падает мир? Или ему дано испытание, чтобы закалить его дух, заострить зрение, укрепить мышцу руки, которая произведет одиночный выстрел и остановит это кровавое хрустящее колесо?
Пулеметчики, истощив боекомплекты, опустили стволы. Гранатометчик в длинном балахоне и пятнистом платке поднял трубу, и граната, прошипев, ударила в иконостас, проломила дыру, из которой валил дым и летели искры.
– Господин Торобов, служба окончена. – Зольде галантно наклонился, указывая на выход.
Под навесом галереи толпились боевики. На досках, голая, лежала игуменья. У нее был толстый раздутый живот и огромные груди. Казалось, у нее три головы. Ее руки были разведены в стороны, два боевика наступили ей башмаками на запястья, и было видно, как шевелятся из-под подошв ее пальцы. Другие два развели ее оплывшие ноги, не позволяли им дергаться. Была видна ее косматая промежность, темная вмятина пупка. Очередной боевик стянул рубаху, приспустил штаны, навалился на нее. Она стала кричать.
– На арамейском, – проходя мимо, произнес Зольде.
Торобов отвернулся, чтобы не видеть женскую оплывшую ногу и гибкую вздрагивающую спину боевика.
Они вернулись в город под вечер. Торобова разместили на верхнем этаже двухэтажного дома, в хорошо обставленной комнате, где было зеркало в резной раме, овальный стол с удобными стульями, мягкий кожаный диван. Видимо, дом принадлежал зажиточной семье, которая, страшась войны, покинула город. Торобова накормили ужином – горячей говядиной в сладком соусе, свежими овощами, принесли большой чайник с душистым чаем. С ним обращались предупредительно, служитель, принесший блюда, кланялся и улыбался. Но дверь оставляли запертой, внизу слышались голоса, звяканье оружия. Зато из комнаты на плоскую крышу вела лесенка. Торобов вышел на плоскую кровлю, где стояли горшки с засохшими цветами. Смотрел на вечерний город, на улицы, полные торопящихся людей с какими-то кульками и сумками, словно они куда-то опаздывали. На грузовики с боевиками. На мечеть с острыми, как веретена, минаретами, которые уже были подсвечены зеленым. Он не знал, сколько его продержат взаперти, когда осторожный Фарук Низар откликнется на его зов, поверит ли ему. Или разгадает его хитрость, и ему суждена пуля на каком-нибудь глухом пустыре.
Ночью он проснулся от пугающей мысли, что в своих расчетах пропустил какое-то важное обстоятельство, забыл его включить в свой план. И поэтому план обречен на провал, ему грозит разоблачение. Проницательная разведка противника уже раскрыла его замысел. Жестокий артистичный Зольде играет с ним, забавляется, прежде чем замучить в застенке.
Торобов вскочил. Света не было. Нащупал в темноте перила лестницы, ведущей на кровлю. Поднялся и вышел на крышу. И понял, что было им забыто, что не включил он в свои хитроумные расчеты.
Небо. Оно дохнуло необъятной ширью, распахнулось блистающим простором, осыпало его мерцанием и блеском. Звезды, белые, голубые, зеленые, дрожали, текли, сливались в пылающие сгустки, растворялись и тонули в туманностях. Орнамент звезд проступал небесной геометрией, словно их соединяли горящие линии. Другие звезды размыто тонули в голубых туманах. Небо волновалось, трепетало, по нему пробегал ветер, и звезды казались отражениями на черных волнах. Небо замирало, и звезды драгоценные, как бриллианты, горели бессчетными россыпями.
Торобов, запрокинув голову, смотрел на небо. Оно не было включено в его построения. Неба недоставало в его замыслах, где присутствовало множество деталей и мелочей, но отсутствовало главное – небо.
Как оно соотносится с той пулей, что ударила в баранью тушу на багдадском рынке? Как соотносится с убитым знаменосцем, чьи побелевшие кулаки сжимали древко, а на лице застыла блаженная улыбка? Как оно соотносится с грохочущими пулеметами, что валили наземь пленных солдат после их молитвы? Как соотносится небо с убитым священником, лежащим в потоках голубого света? Как соотносится с толстой женской ногой и дрожащими мужскими ягодицами?
Господь, сотворивший миры, возжегший светила и солнца, напитавший Вселенную лучистой энергией света, – Господь не забыл сотворить израильские самолеты с желтыми шестиконечными звездами, пикирующие на палестинскую девочку. Не забыл сотворить штурмовики с красными пятиконечными звездами, разгромившие колонну машин. И он, Торобов, желая остановить кровавое колесо, хочет остановить колесо, раскрученное Господом Богом? И он, задумав «выстрел возмездия», есть богоборец, восставший против замысла Бога?
Эта мысль вела к помрачению. Он блуждал глазами среди бесконечно удаленных светил, и среди них качалась баранья туша, пробитая пулей, дрожала и дергалась оплывшая женская нога.
Он путался, вспоминал богословские тексты, суфийские трактаты, свидетельства святых афонских отцов. Голова его кружилась от непонимания мира, от бесконечности неба, от его блеска и трепета. Он вымаливал у неба ответ, просил Господа не лишать его разума, не ввергать во тьму, где он забудет обожаемое лицо матери, любимые очи жены.
«Господи, Ты слышишь меня? Ты не оставил меня? Ты видишь меня?»
Тихая золотистая капля полетела из неба, оставляя гаснущий след. За ней две другие, как беззвучные слезы, покатились по темной щеке небес, канули, не долетев до земли. Из неба падала золотая капель, таяла на лету, чертила в ночи бесшумные дуги. Торобов запрокинул лицо к плачущему небу, оно рыдало, оплакивало его, проливало на него золотистые слезы.
Утром Торобова разбудил шум моторов, бравурная музыка, крики. Выглянул в окно. По улице катили грузовики с вооруженными людьми, развевались черные знамена с белой вязью. Работал громкоговоритель, установленный на легковушке. По тротуарам торопился народ, все в одну сторону, туда, куда звала музыка маршей, катили грузовики со знаменами.
Вошел Зольде, в бархатной куртке, с голубым шарфом, перетянутый ремнем, на котором висела кобура. Он походил на бутафорского персонажа революционных фильмов, в которых действуют анархисты и лихие налетчики. Его утонченное лицо было бледным, синие глаза мерцали, словно в них закапали возбуждающие капли, на тонкой переносице у глаз проступили синие жилки.
– Господин Торобов, имею для вас приятное известие. Фарук Низар ждет вас в Катаре. Сегодня мы отправим вас в Иорданию, и оттуда вы прилетите в Доху. Вас будут встречать. Я приготовил вам церемонию прощания. Машина внизу.
Джип доставил Торобова на площадь, и, выйдя из машины, он очутился в горячем шумящем скопище, запрудившем площадь. Народ густо толпился, прижимаясь к фасадам нарядных домов, в которых, по всей видимости, размещались муниципальные учреждения, висели флаги. Цепь автоматчиков отсекала толпу от площади, в центре которой красовалась алебастровая чаша, быть может остатки заглохшего фонтана. На этой чаше был сооружен помост, обтянутый зеленой тканью, тесно, плечом к плечу, стояли бородачи с автоматами, зверского вида, положив пальцы на спусковые крючки. Перед чашей была сложена поленница из кривых бревен, напоминавшая колодезный сруб. Японский подъемный кран вытянул вверх стрелу, с которой, на лебедке, свисал огромный железный крюк. Этот крюк был начищен до блеска, сиял на солнце, и было видно, что его чистили старательно, как мастера высокого класса чистят и холят свои любимые инструменты. Торобова подвели к алебастровой чаше и поставили рядом с другими людьми, полевыми командирами и городскими чиновниками, кто в камуфляже, кто в гражданской одежде, кто в арабских платках, охваченных черными шнурами.
Торобова угнетало шумное многолюдье, аляповатая, с отбитыми краями ваза, громадный сияющий крюк, похожий на отточенный клык. Все это казалось декорацией для модернистского спектакля, где зрители мешались с артистами. И Зольде, как режиссер перед началом спектакля, волновался за его успех:
– Вам не тесно, господин Торобов? Потерпите, не пожалеете!
Площадь колыхнулась, толпу качнуло в одну сторону. Все головы, бородатые, в платках, пятнистых картузах, хиджабах, в металлических касках, повернулись к улице, из которой донесся рокот мотора. Тяжелый грузовик с открытым кузовом медленно въезжал на площадь. Грузовик был украшен зелеными трепещущими флажками. В кузове с откинутыми бортами стояла железная клетка, и в ней, в оранжевой долгополой хламиде, держась за прутья, стоял человек. Рядом с клеткой, в черных балахонах, в масках с прорезями глаз, застыли существа, похожие на обитателей подземного царства. Ярко-оранжевая хламида и черный цвет балахонов создавали зловещий контраст, от которого у Торобова заныло сердце. В человеке, облаченном в оранжевую хламиду, он узнал пленного советника, который вчера плюнул ему в лицо. И теперь он почувствовал ожог на лице, смотрел, как грузовик медленно разворачивается на площади, приближаясь к подъемному крану, и телеоператоры снуют вокруг, наводя телекамеры.