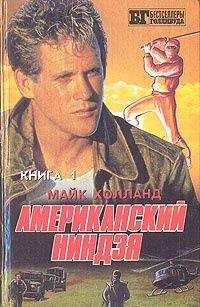Пальмы росли по всему острову — косматые, заросшие, как бурые медведи, жесткой, длинной шерстью, из которой лесенками торчали сучки. Особенно хороши, впрочем, были они по утрам и к вечеру, когда Суюки и Джо садились рядом и смотрели на их вершины, то тающие в утренней дымке, то становящиеся черными и плоскими на фоне оранжевого с алым неба.
Обычно Суюки приводил Джо на холм; там, в траве, быть может, до сих пор остались просиженные вмятины. С холма была видна большая часть острова, но можно было разглядеть и океан — изменчивый, как человеческая судьба, могучий, бесконечный… Бесконечной была вода, бесконечным было небо, то низкое и синее, то далекое, утыканное звездными иглами, и эти бесконечности исподволь входили в само его сознание, позволяя ему расширяться до космического универсума, быть всюду — и нигде. Нельзя сказать, что Джо любил такие минуты, — они волновали его, притягивали сильнее физиологической любви, о которой он тогда и не знал, но все же суть его отношения к таким моментам была иной. Скорее, это являлось неотъемлемой частью его существования, его личности — как тело могло зачахнуть и умереть, лишившись воды и пищи, так и в душе начиналось отмирание, когда исчезали этот океан и это небо, на которое надо было смотреть, смотреть, смотреть и читать в его молчании то, что не передашь никакими словами. Почти тем же самым, но на другом уровне, была и чайная церемония.
Джо осторожно поднял и поднес к губам горячую, обжигающую пальцы чашку.
Суюки смотрел на него с хитрой, но доброй улыбкой.
— Ты меня… многому… научил, — с трудом подбирая слова проговорил Джо. — Я помню…
Теперь он видел не руки — только суженные глаза учителя.
Глаза улыбались.
Глаза улыбались, и Джо — маленький Джо — подходил к огромному дереву, разделяющемуся на десятки стволов-ветвей, образующих невероятнейшую лестницу. Детские ручонки хватались за выщербинки на коре, цеплялись за тонкие ветки, обнимали толстые — Джо начинал подниматься.
Иногда ему делалось страшно, но взгляд Суюки говорил: «Ты можешь», — и он мог. Уходило головокружение, в непрочности тонких верхних ветвей находилась опора, руки и ноги наливались силой, крепли, позволяя уже не минуты — часы — висеть, держась за деревянные перекладины, сперва на обеих руках, затем на одной. Сперва налегке, затем — с зажатым во второй руке оружием, с увеличивающейся тяжестью. То замирая, то, наоборот, раскачиваясь…
Дерево было другом и союзником — как все его окружавшее. С любой обстановкой можно было слиться, заставить работать на себя, если найти правильный к ней подход. Но для этого надо было знать и ее, и себя, знать так, чтобы эти знания об окружающем мире входили в плоть и кровь, чтобы их не приходилось через силу вытаскивать из памяти…
— Я нашел тебя ребенком и дал тебе имя Джо — единственное американское имя, которое я знал…
— Твое имя — это связь с твоим народом, — вспомнил Джо разговор за чаем, — за другим чаем, еще тогда…
— Человек не может жить без таких связей, оставаясь собой. И в то же время, чтобы стать выше, чем ты есть, надо подняться и над этой связью. Корни помогают дереву держаться за землю, но деревом его делают ствол и ветви — а они тянутся к небу…
«Я не понимаю…» — взглядом отвечал Джо, не осмеливаясь перебить, но Суюки читал его вопросы по лицу.
«Рано или поздно ты это поймешь. Добро и зло всегда шире, чем тебе будут подсказывать корни, если слушать только их. Если замкнуться на них — солнце так и останется далеко. Учись понимать и видеть все шире — вот чему я хочу научить тебя. Пусть искусство поднимет тебя вверх».
— Я помню, помню…
— …я учил твое тело и чувства, чтобы ты мог занять место на поле чести.
— Да, Учитель…
Джо опустил полегчавшую чашку на стол, позволил рукам свободно упасть на колени и перенесся в прошлое.
На Суюки была надета японская военная форма — Джо только сейчас разглядел и понял это. Даже потом, когда одежду достать стало можно, он не хотел ее менять, она была как напоминание о своем пути. Суюки был воином и не знал иного, военная же форма была для него символом смысла его жизни, которая, как казалось ему тогда, пришла к логическому завершению.
Остров был необитаем, мир оставался за океаном, и, лишенный возможности быть тем, кем он должен был быть по призванию, Суюки перешел от жизни к существованию. Нет, он вовсе не падал духом, но все так же устраивал сам для себя тренировки, бегал, стрелял, вырезая из веток новые стрелы, но знал: будущего впереди нет. Когда волны вышвырнули на берег ребенка, он не сразу переменил свое мнение. Затем ему подумалось, что он исчерпал в себе еще не все: пусть как воин Суюки был выброшен из мира, но он еще мог быть учителем, передать свои знания и опыт маленькому, теперь одному ему принадлежащему человеку. Так возник новый смысл. Он не верил, что когда-нибудь сумеет покинуть остров, не верил и в то, что это удастся сделать Джо, — но отдался единственному новому занятию всей душой.
Джо оказался понятливым учеником. Свою новую жизнь он воспринял как должное, напрочь забыв о том, что было до встречи с Сроки.
Он лазил по деревьям, стрелял, как стрелял Суюки, танцевал ката, рубил мечом надетые на палки тыквы и комья глины, осваивал искусство палочного боя и метания сюрикенов… Глядя на его быстрый рост, Суюки ощущал себя настоящим художником, скульптором человеческой души, которая на глазах все четче проступала в подрастающем: мальчишке. Он привязался к Джо по-настоящему, как только может привязаться один человек к другому. Как художник — к своему творению. Или — отец к сыну…
Затем пришли чужие.
Кто знает, какими судьбами в бухту острова занесло тот злосчастный корабль, но однажды он возник. А вскоре на побережье началась стройка.
Суюки и Джо наблюдали за пришельцами издалека, безуспешно стараясь понять, что же им надо. Теперь Джо смутно догадывался, что военные закладывали на острове фундамент для будущей секретной базы. Тем не менее оба по-прежнему поднимались на вершину холма для вечерней и утренней медитации и потому не уследили, когда в лесу был заложен динамит. Когда днем Джо, как обычно, подкрался поближе к незнакомцам и принялся изучать их с дерева, земля вокруг него неожиданно взлетела в воздух, все исчезло, а потом наступило пробуждение, больше похожее на дурной сок…
— Да, я вспоминаю, — проговорил Джо, — но не все… есть вещи, которые я вспомнить не могу.
В следующую секунду Джо показалось, что Суюки дружески похлопал его по плечу, — нет, Учитель даже не шелохнулся, только взгляд его остановился на лице Джо.
— Было то, что я сам заставил тебя забыть, — боль могла помешать тебе.
Джо ощутил легкое удивление, но задавать вопросов больше не стал: раз Учитель считал, что так надо, не ему было нарушать неписаный закон.
— Ну что ж, — Суюки отставил в сторону чашку. — Теперь пришло время для последнего урока.
Они встали и прошли в другую часть комнаты, где на квадратном лоскуте темной ткани лежало оружие. Нет, не армейские автоматы — нечто совсем иное…
Суюки с ласковой улыбкой пропустил Джо вперед и начал называть, всякий раз указывая на оружие рукой. Джо глядел на заточенную сталь с нескрываемым уважением: слова оживали в его памяти и сами, но, повторенные Учителем вслух, они словно заново обретали свою сущность.
— Кусари-кама.
Ладонь Суюки указала на оружие, похожее на перевернутую букву L. К деревянному древку, длиной в половину человеческой руки, почти вертикально примыкало лезвие, несколько загнутое вовнутрь. С другой стороны рукояти к каме крепилась тонкая прочная цепь, на конце которой виднелся грузик, который должен был при броске опутывать оружие противника. В этом причудливом и грозном оружии сложно было узнать мирный крестьянский серп.
— Сюрикен.
Пожалуй, «звездочка» меньше всего нуждалась в представлении — Джо встречался с ней совсем недавно.
— Саи.
Саи Джо нравились. В них ему виднелась особая законченность и изящество формы; ничто другое не отвечало так его представлениям об идеальном оружии, как этот среднего размера трезубец. Саи можно было метать, можно было, перехватив неожиданной хваткой, направить на противника так, чтобы граненый клинок — моноучи прикрывал руку до локтя, защищая от ударов меча. Можно было при помощи боковых ветвей трезубца захватывать оружие противника. Короче, можно было и защищаться, и нападать, и, в случае надобности, просто вскапывать затвердевшую землю. Малейший узор, малейший изгиб — будь то насечка на рукояти или плавная линия боковых зубцов — все имело свой смысл и могло удивлять и восхищать целесообразностью. Кроме того, в самих приемах работы с парными саи скрывалась особая красота, как ничто иное объединяющая и технику, и силу, и гармоничность. В своем роде саи были совершенством.