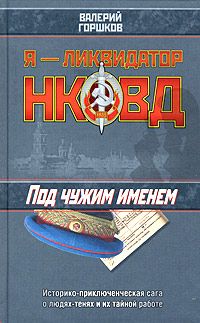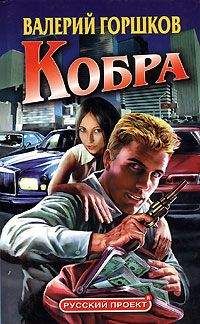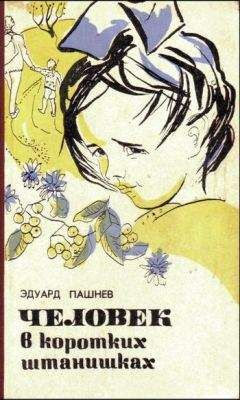– Хорошо, что вы не успели дать ход этой фальшивке, Филипп Саввич. Значит, я успел вовремя. Посему… Властью, данной мне Москвой, я изымаю этот документ из дела. Забудьте, что этот лживый донос когда-либо существовал. Соответственно забудьте все, что в нем говорилось, и в дальнейшем не предпринимайте попыток встречи с фигурантами доноса. Тем более – под вымышленными, якобы не относящимися к делу Корсака предлогами. Знаю я ваши методы…
– Кажется, вы забываетесь, – наконец опомнившись от шока, Медведь предпринял вялую попытку перехватить инициативу. – Я – генерал Чека!!! И вы не смеете…
– Смею. И гораздо больше, чем вы можете себе представить.
Шелестов казался невозмутимым. Но свинцовый взгляд командира спецотряда давил на генерала с такой силой, что и сам не робкого десятка Медведь вдруг захотел съежиться до размеров карлика и залезть под стол.
– Один мой телефонный звонок в столицу, и я задним числом получу карт-бланш на арест любого – я повторяю – любого! – офицера Союза ССР, вне зависимости от звания и должности, если тот своими действиями ставит под угрозу срыва сверхсекретную операцию особой государственной важности. Поймите же вы, черт вас возми! Я не могу, не имею права ввести вас в курс дела! – рявкнул Шелестов и, мгновенно сбавив психологическое давление, устало вздохнул. И, дабы окончательно разрядить атмосферу, как опытный психолог незамедлительно «бросил Тузику конфетку»: – В детали я посвящу вас обязательно. Но – чуть позже. Когда операция успешно завершится. Сейчас же могу лишь дать настоятельный совет: забудьте такое имя – Ярослав Корсак. Раз и навсегда. А папочку лучше всего… – подполковник резко замолчал. Огляделся. Словно невзначай остановил взгляд на тихо гудящей в углу кабинета, такой же огромной, как и само помещение, печи, мерцающей в полумарке оранжевым огоньком сквозь чугуную дверцу. Передернул плечами: – Холодновато здесь у вас. Не мешало бы дровишек в топку подбросить. Как думаете, Филипп Саввич?
Батя поднял со стула шинель, накинул на плечи и, молча обменявшись рукопожатием с нехотя протянувшим липкую длань генералом, быстро направился к двери. У самого порога вдруг хлопнул себя ладонью по лбу, обернулся, поймал хмурый, с примесью бессильной злости взгляд главного ленинградского чекиста, широко улыбнулся во все тридцать два зуба и сказал, уже совершенно обычным – почти приятельским – тоном:
– Кстати, чуть не запамятовал. С наступающим вас Новым годом, товарищ генерал! Надеюсь, сороковой будет удачным в плане карьеры. Ну… и побольше красивых женщин, само собой! А про папочку… ту, что на столе до сих пор лежит… забудьте, ладно? От нее вам теперь только одна маета да беспокойство. Здравия желаю.
Шофер ждал Батю на улице, в теплой просторной машине с мягкими кожаными сиденьями и тихо урчащим под капотом двигателем. «Дворники» на лобовом стекле, уютно поскрипывая, счищали обильно падающий с низкого зимнего неба пушистый снег.
– Подремал? – захлопывая дверцу и впуская в салон рой тут же тающих снежинок, устало поинтересовался у шофера Шелестов.
– Есть маленько, – признался, широко зевая, водитель. – Куда сейчас, товарищ командир? На базу или…
– Или. В сторону Новгорода. На тринадцатом километре поворот направо, дальше все время прямо. Деревня называется Метелица.
– Ага. Угробица-колдобица, мать ее в коромысло! – вздохнул здоровяк. – Не застрять бы на тамошних заваленных сугробами направлениях! – Выключая ненужные более фары, трехпалый водитель воткнул первую передачу и плавно отъехал от поребрика.
На улице уже совсем рассвело. Мимо то и дело сновали автомобили. Торопливо шли, зябко кутаясь от двадцатиградусного мороза в теплые одежды, люди. Зимний, хмурый, промороженный и продуваемый насквозь всеми ветрами Ленинград просыпался.
– Ничего, – успокоил Шелестов. – Доберемся. Наша лошадка ходкая. Да и мы с тобой… дистрофики, за сто килограммов каждый. В случае чего вытолкаем. Ты давай за дорогой лучше смотри, Володя. А я, пока есть возможность, вздремну чутка. Когда еще получится. Чует моя ж… – денек сегодня будет тот еще. Сюрприз за сюрпризом. Разбудишь, когда к повороту на Метелицу подъедем. Не раньше.
– Я думаю, товарищ командир, как только я с шоссе сверну, вы сами от тряски проснетесь, – рассмеялся трехпалый.
– Может быть, – вздохнул Батя, падая на бок и подкладывая под голову шинель. Прошептал уже с закрытыми глазами: – Россия-матушка. То красна девица, а то старуха горбатая. Она такая во всем мире одна. За что и люблю…
Через минуту подполковник Шелестов уже крепко спал на широком заднем сиденье своего роскошного черного автомобиля, плавно покачиваясь в такт попадающимся по ходу движения трамвайным рельсам, буграм и дорожным ямам. Он спал ровным, глубоким и спокойным сном мудрого и сильного духом человека, который только что сделал трудный для офицера выбор. Выбор, основанный не на сляпанных буквоедами и кровопийцами сухих гражданских законах, не на грозящих трибуналом за измену воинских приказах, а исключительно на голосе своего до сих пор не зачерствевшего, несмотря на тяжелую, неизгладимую печать грубой мужской профессии, человеческого сердца.
Ощущение тревоги, дискомфорта на душе появилось у Корсака неожиданно. С тех пор, как с шумом, смехом и скабрезными прибаутками они запрыгнули в кузов тентованного грузовика и покатили на «выходные». На так любимую лишенными многих элементарных человеческих радостей бойцами спецотряда «дачу», затерянную в глухом уголке запада Ленобласти, на берегу реки Воронки. Среди бойцов второго отделения, которых Ярослав знал не слишком близко – лишь по кличкам и в лицо – за время службы в «Стерхе» все уже побывали там неоднократно и, заполучив в свою шумную, разудалую в предвкушении гульбища, дружную компанию новенького, сразу же начали вводить Охотника в курс дела.
Слава слушал бывалых без особого интереса, что называется, вполуха, чувствуя, как в груди странным образом расширяется, холодя сердце и внутренности, пугающая пустота. Словно предчувствие надвигающейся беды…
Хотя, может быть, этот внезапно накативший на Корсака приступ беспокойства был всего лишь следствием испытанного во время выполнения боевой задачи сильнейшего нервного и физического напряжения. Пока ты в тылу врага – хандрить и расслабляться нет времени. Надо любой ценой выполнять приказ. Рикошет наступает гораздо позже, через сутки или двое, во время отдыха…
– Так что не дрейфь, Слава, будь как дома! – Сидящий рядом на скамейке у борта рослый чернявый здоровяк по прозвищу Штык снисходительно похлопал Корсака по плечу. – Хозяин и Батя – командиры от бога. Знают, что без водки и хорошей бабы мозги у мужика за месяц закипают. Против природы не попрешь. Сухостой надо по-любому гасить. А какой самый верный способ для русского человека снять напряжение? Конечно, пьянка с бабами, по-черному, до упаду. На три дня. Двое суток пьешь и пистона вставляешь, сколько влезет, на третьи рассолом капустным и кваском опохмеляешься, а на четвертый день о водке даже думать не можешь – сразу блевать тянет. Это значит отлично погулял. Целый месяц теперь спокоен, как удав… Поэтому Хозяин и приказал поставить сруб в глухом медвежьем углу. Вдали от посторонних глаз. Окружив территорию в пять гектаров вокруг «дачи» забором с колючей проволокой. Держат там постоянно прислугу из трех человек. Повариха, уборщица и сторож, за собаками приглядывающий. А девок к нам аж из самого Ленинграда привозят. Иногородние все, из общаги. Из какой – не говорят, стервочки. Даже когда лыка не вяжут. Видать, подписку серьезную давали. Ну, нам-то эти тонкости без разницы. Чистые, веселые, не ломаются – что еще для счастья надо?!
– Короче, на отдыхе нашему брату-диверсанту разрешено почти все, – вмешался в монолог Штыка сидящий напротив Славы неприметный с виду боец с простым крестьянским лицом, откликающийся на Жука. – Кроме оружия и драки. Чтобы, не дай бог, с пьяных глаз не покалечили друг друга. С этим – строго. Провинившимся хотя бы раз вход на «дачу» заказан. У каждого человека психика разная: одному с двух литров – хоть бы х… а кому-то после второго стакана вурдалаки с кровавой пеной на зубах мерещатся. А так – пей, сколько влезет, ешь от пуза, танцуй под пластинку, купайся в Воронке голышом, в баньке веничком махай, по лесу, в пределах периметра, гуляй, ляльку сладкую дери, сколько шишка позволяет. Но только так, чтобы никто не видел. Свобода свободой, а за свальный грех и нудизм Батя приказал сразу в карцер сажать на две недели. На хлеб и воду. Имей в виду. Если лето и тепло – веди в лес, подальше от дома, а сейчас, зимой, – только в одной из спален, на втором этаже. Впрочем, если, не дай бог, начнешь бузить – мужики тебя поправят. Объяснят, что не прав. Если надо – спать положат. Или сам кому-нибудь уставшему подсобишь… Мы, Охотник, здесь, в отряде, почитай, как одна семья. И если живы будем, то служить нам рядышком, бок о бок, еще долго. Так что лучше жить мирно. Правда, не всегда это получается, мужики от нервов постоянно на взводе. Как пружины. Только тронь – сорвется…