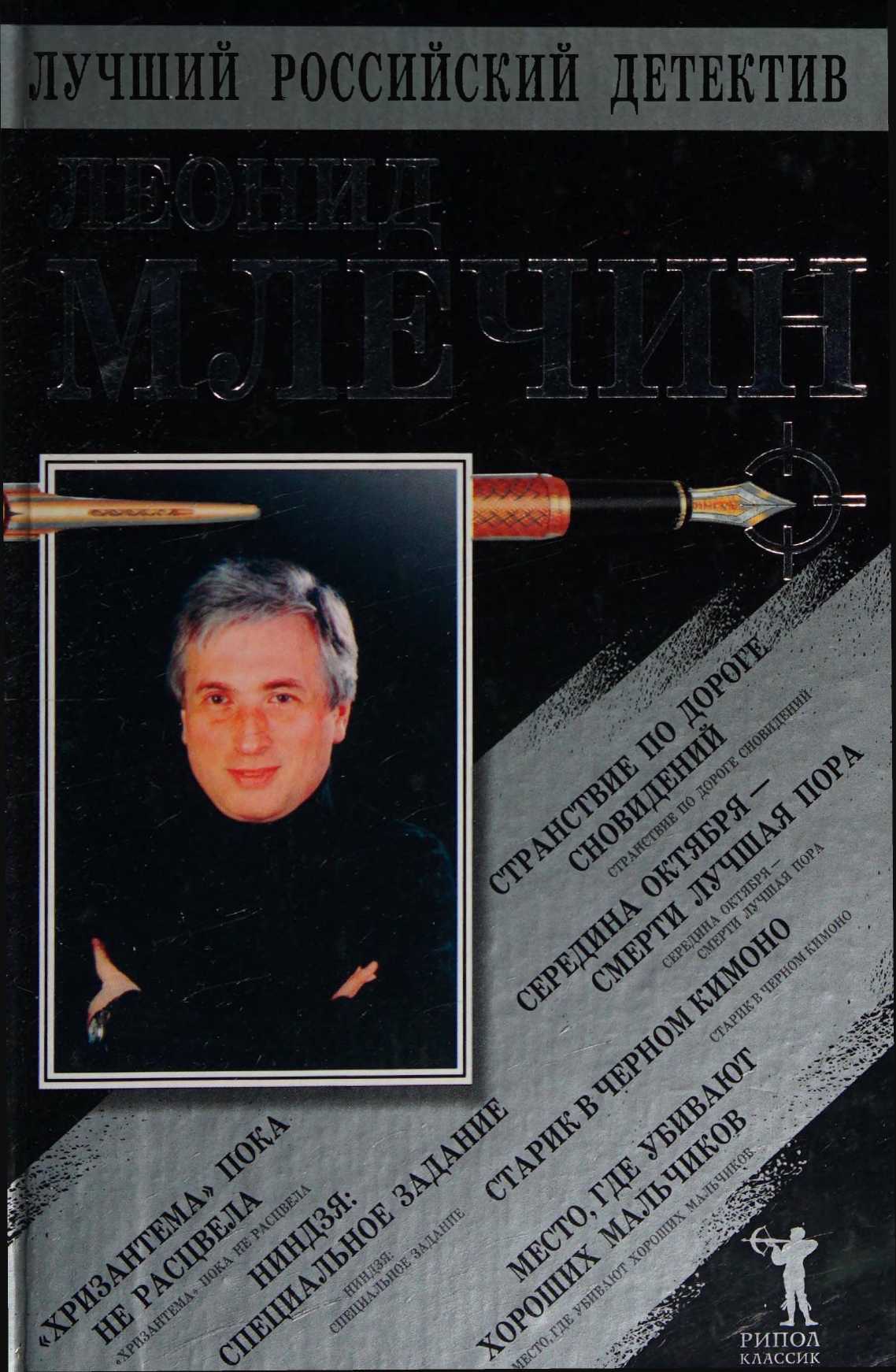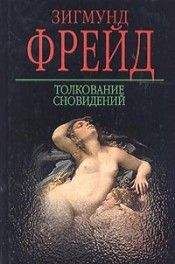на улице за небольшими столами сидели человек сорок, ели и пили. Венки были прислонены к стене дома. Рядом стоял гроб, вырезанный из ствола мягкого дерева, и куча каких-то предметов, вырезанных из бумаги.
— Это бумажные копии тех вещей, которые понадобятся умершему, — так же тихо продолжал Иноки: — Бумажные деньги, бумажный дом и даже бумажная машина. Все это сжигается и отправляется с ним в мир духов.
Несколько священнослужителей ритмично двигались, стараясь попасть в такт оркестру. Иностранцу такая шумная церемония показалась бы неуместной в столь трагический час, но, возможно, своим шумом и суетой она прятала пугающую тайну смерти, спасая оставшихся от острой тоски.
Тэрада повернулся к дому Тао Фану.
— Под такой аккомпанемент можно попробовать.
Иноки вошел в уже знакомый подъезд, поднялся на четвертый этаж, тщательно осмотрел коврик, лежавший на полу перед дверью: никаких новых следов. Присев на корточки, Иноки занялся замком. Тэрада привез ему сумку с разнообразным инструментом, но ухищрения мастеров из технического управления исследовательского бюро при кабинете министров не понадобились: замок оказался самым простым. Это даже немного насторожило Иноки: может быть, обитающий в квартире Сунь Чжимо вовсе и не Тао Фану?
Входная дверь и не скрипнула, пропустив Иноки в квартиру. Ночь выдалась светлая, лунная, и, поскольку занавески на окнах отсутствовали, темно в квартире не было. Иноки внимательно прислушался: с улицы неслись звуки оркестра, кто-то разговаривал прямо под окнами. В квартире было тихо.
Иноки медленно двинулся по коридору. Ему приходилось видеть жилища бедняков, но и в них оставалась какая-то мебель. Здесь не было ничего. Пустой коридор, пустые комнаты — одна расшатанная кровать. Но квартира не была необитаемой. По углам комнат валялись какие-то пакеты, сумки, кипы газет. Иноки добрался до кухни. На столике лежали остатки еды, пустые бутылки, из крана тонкой струйкой бежала вода. Иноки нагнулся и вытащил из-под хлипкого столика тяжелую картонную коробку. Ему пришлось включить фонарик, чтобы разобраться с ее содержимым. В исследовательское бюро Иноки пришел, окончив военное училище, и общее представление о взрывном деле у него было. Конечно, в учебном классе им показывали не такие совершенные образцы этого снаряжения — в те годы техническое управление сухопутных «сил самообороны» держало училище на голодном пайке, но полученных знаний тем не менее Иноки хватило: хозяин квартиры держал у себя под столом десяток мощных взрывателей.
Иноки задвинул коробку обратно под стол, спрятал фонарик. Больше ему здесь было нечего делать. Взрыватели были радиоуправляемые: сигнал можно было подать с помощью передатчика, находясь на значительном удалении от места взрыва. Передатчик тоже лежал на дне коробки, все приборы были собраны и готовы к использованию. Иноки озадачила их мощность: с помощью такой аппаратуры можно взорвать небоскреб, военный корабль или мост.
Когда Цюй Айн вдруг заговорил, Стоукер испытал лишь чувство облегчения — торжествовать ему было нечего. Напротив него в темном вольтеровском кресле сидел не считавший себя виновным человек, чью волю Стоукер должен был сломить. Но Цюй Лин говорил совсем не то, что ожидал от него Стоукер.
— Я разделил драму своего поколения. Как и многие мои соотечественники, принужден был поступать в соответствии с обстоятельствами, изменить которые не в силах. Мне не в чем себя винить. Почему вы так жестоки и заставляете меня вспоминать то, что я хотел бы забыть? Почему через столько лет после войны вы не хотите оставить меня в покое? Неужели вы не в состоянии быть милосердным?
— Но вы сотрудничали с оккупантами, — возразил ему Стоукер. — Вы были переводчиком у японцев, а вовсе не узником лагеря, как ваши соотечественники, сражавшиеся с врагом.
— Послушайте, Стоукер, я же при первой нашей встрече объяснил вам, что вы ошиблись, полагая, будто я сидел в Чанги, — устало сказал Цюй Дин. — Через несколько дней после того, как японцы вошли в город, меня вызвали в комендатуру. Спросили, знаю ли я японский. Что я мог им ответить? Если бы я попробовал соврать, дело бы кончилось плохо. По всему городу шли казни… Четыре года я занимался переводами. Но я никогда не принимал участия в чем-либо преступном: ни в расстрелах ни в пытках. У жандармерии были свои переводчики.
— Зачем же вы скрывали, что служили у оккупантов?
— Я ничего не собирался скрывать. Но в Сингапуре никто и никогда не спрашивал меня о временах оккупации. Об этом вообще не любят говорить… А кто-то из иностранных журналистов во время интервью неправильно истолковал мои слова и написал, что я сидел в Чанги.
— Вокруг убивали и унижали людей, вы знали, что происходило в лагерях, особенно в Чанги. И продолжали служить оккупантам…
— Я занимался канцелярской работой, переводил, составлял протоколы, подшивал документы. Конечно, я не принадлежу к героям. От войны у меня остались самые печальные воспоминания. Вот вы пришли ко мне и требуете ответа, считаете виновным в гибели своего отца… Но при чем здесь я? Теперь люди не понимают, что тогда не было выбора. Если ты отказывался служить оккупационным войскам, тебя казнили. Конечно, не так уж приятно обо всем этом вспоминать. Вот почему я предпочитал молчать, не говорил об этом даже детям.
— А что с вами будет, если я представлю журналистам свидетельства вашего коллаборационизма? — спросил Стоукер, глядя Цюй Линю прямо в глаза. Депутат выдержал его взгляд.
— Вы доставите удовольствие моим политическим противникам. Вот, пожалуй, и все. Я не пытаюсь делать хорошую мину при плохой игре. Здесь, в Сингапуре, вы никого не обрадуете своими откровениями. Во-первых, мы не любим, когда иностранцы вмешиваются в наши дела, да еще пытаются учить нас морали и нравственности. Во-вторых, кому охота ворошить прошлое?
С ноября по январь в Сингапуре самый дождливый сезон, внезапные ливни обрушиваются на землю, и от воды нет спасения. Три-четыре раза в месяц по утрам грохочут грозы, здесь их называют «Суматра». Они сопровождаются бешеными порывами ветра, скорость которого достигает ста с лишним километров в час.
«Суматры» были ужасным бедствием для лагеря в Чанги. Ветер срывал крыши с бараков, в которых жили военнопленные, и тогда от ливня не было никакого спасения. Койки, одежда пропитывались водой. И после того как прекращался дождь и стихал ветер, лагерь походил на гигантское болото — вода стояла, переполненная влагой земля отказывалась ее принимать. Измученные недоеданием, малярией и дизентерией военнопленные выползали на солнце сушиться. После каждого такого купания несколько человек, истощенных болезнями, умирали. Особенно широко распространилась дизентерия. Когда военнопленные предложили своими руками навести чистоту вокруг лагеря и заикнулись насчет медикаментов, помощник коменданта капитан Фуруя рассмеялся им в лицо.