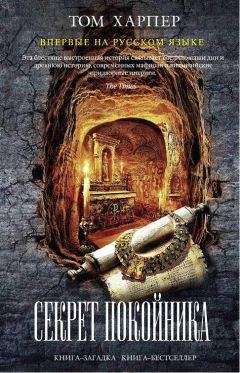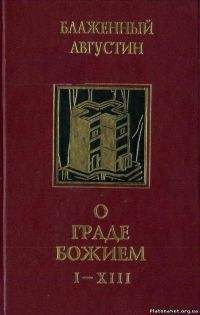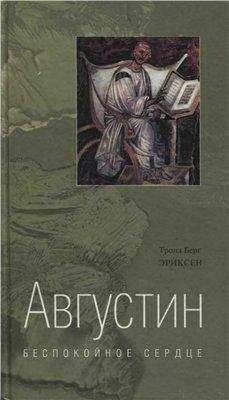Крисп кивает, хотя видно, что он все еще ошеломлен.
— Но если Церковь раздираема разногласиями, можем ли мы на что-то надеяться?
Забудьте про надежду, думаю я и мысленно возвращаюсь в Фессалоники. Перед моим внутренним взором возникает кровь, стекающая по красному мрамору, мне кажется, будто я слышу, как своды дворца сотрясают стенания Констанцианы. Вот так ты хранишь свой мир. Ну почему они не пощадили мальчика?
Константин садится на край кровати. Крисп занимает место с ним рядом.
— Скажи, как, по-твоему, нам убедить ариан смягчить свои взгляды?
Крисп качает головой.
— Ария не переубедить. Если бы дело было только в нем одном — может быть, но его идеи получили поддержку у влиятельных покровителей, так что отступать он не станет. Этим он унизит Евсевия.
— Все эти вопросы насчет Троицы — они такие темные, что лучше их вообще не задавать, — по лицу Константина видно, что он действительно опечален. — Если бы кто-то и задал, у людей должно хватить ума, чтобы не отвечать на них.
— Теперь уже поздно. Вопросы заданы, значит, нужно искать на них ответы, — с этими словами Крисп достает из складок туники небольшой свиток.
Константин издает стон.
— Очередная петиция?
— Александр из Кирены, мой бывший наставник. Надеюсь, ты его помнишь. Он составил Символ веры.
Христиане обожают составлять символы веры. Это такой документ, в котором они перечисляют качества своего бога. Этот собор для того и созван, чтобы найти среди них такой, под которым все епископы согласились бы поставить свою подпись.
Константин читает свиток до конца. Даже в таких заумных вещах, как христианское вероучение, его острый глаз тотчас же извлекает самое главное.
— Эта фраза «Христос рожден от бога, но не сотворен» — насколько я понимаю, Арий возражает именно против этого?
— Если Бог сотворил Христа, тогда Христос есть нечто отличное от Бога. Но если он рожден от Отца, значит, сущность их едина, и Христос существовал столько же, сколько и Бог Отец.
— Значит, Отец и Сын имеют единую сущность, — я вижу, как эта мысль укореняется в сознании Константина. За этим следует недолгое обсуждение, которое я пропускаю мимо ушей. Самое главное — этот вывод.
— Ты должен подбросить им мысль, — говорит Крисп, указывая на груду петиций, что по-прежнему валяются на кровати. — Как по-твоему, зачем они принесли тебе все это?
— Чтобы разозлить меня?
— Потому что им требуется тот, кто их рассудит.
На следующее утро в парадном зале дворца Константин созывает заседание собора. Епископы стоят длинными белыми рядами, ждут, когда Константин займет свое золотое кресло. В воздух, требуя к себе внимания, взметнулись несколько десятков рук. Но взгляд Константина устремлен поверх них, затем он указывает на старого наставника Криспа.
— Собор дает слово Александру из Кирены.
Старик — тучный, с суровым лицом, в темной бороде обильно поблескивает седина — встает и начинает говорить. Его слова для меня ничего не значат, но я до сих пор помню начало его речи.
— Мы веруем в Единого Бога…
Стоило ему закончить, как Евсевий вскочил на ноги. Впрочем, Константин не дает ему слова. Вместо этого он благосклонным взглядом обводит присутствующих епископов.
— Лично мне это представляется разумным, — говорит он. — Более того, это очень близко к моим собственным взглядам. И если бы вы четко и ясно указали, что сын имеет единую сущность с отцом…
— Омоусия, — услужливо подсказывает переводчик греческое слово.
— …то кто бы стал с этим спорить?
Он вновь обводит глазами зал. Наконец его взгляд останавливается на Евсевии — тот по-прежнему стоя ждет, что ему дадут слово.
— Епископ?
Евсевий облизывает губы и прочищает горло. Пальцы нащупывают невидимую глазу нитку на мантии. Евсевий туго наматывает ее на толстый палец до тех пор, пока тот не становится красным.
— Я…
Он проиграл. Он либо может назвать Константина еретиком, либо принять компромисс. Самоубийство или капитуляция.
Евсевий широко разводит руками.
— Ну, кто бы стал с этим спорить?
Константин довольно улыбается. Остальные епископы — а таких большинство — громко топают ногами и аплодируют.
Улыбка Евсевия длится ровно столько, сколько на него устремлен взгляд Константина.
Вспоминая теперь этот день, я не перестаю удивляться, как четко и ясно врезался он мне в память. А ведь с тех пор я даже о нем не думал. Его место вытеснили последующие события, которые изменили все. Это просто обломанный конец одной истории, которой не было. Он не вписывается в общую картину.
Можно сколько угодно говорить о том, что у отцов с сыновьями единая сущность. Можно записать эти слова в Символе веры, под которым поставили подписи двести сорок семь епископов (Арий и еще двое фанатиков отказались и были отправлены в изгнание). Но истинными они от этого не стали.
Отец создает сына. Они — не одно и то же.
Белград, Сербия, наши дни
Как сказал Николич, крепость Сингидунум — нынешний Белград — смотрела на варваров на другом берегу Дуная. Кстати, крепость сохранилась до сих пор, и называется цитадель Калемегдан. После римлян кто только не возводил стены на ее фундаменте: и средневековые сербы, и турки-османы, и австро-венгры. С фонарного столба свисало красное знамя, украшенное золотым львом и словами «Leg IIII Flavia Felix», в честь «счастливого» четвертого легиона, воины которого, собственно, и заложили фундамент крепости. Увидев его здесь, Эбби испытала настоящее потрясение. Ей тотчас вспомнилось, как она смотрела в окуляр увеличителя в лаборатории Шая Левина на того же льва и ту же надпись на поясной пряжке мертвеца.
Неужели и он был здесь? Неужели я иду по его следам?
Теперь крепость превращена в парк — зеленый анклав, раскинувшийся на высоком мысу в месте слияния Савы и Дуная. Здесь среди старых фортификационных сооружений змеились пешеходные дорожки. Летом в парке искали спасения от жары и туристы, и местные жители. Осенью здесь в основном можно было увидеть собачников и любителей бега трусцой. Впрочем, сегодняшний день, похоже, был исключением. Металлические барьеры отгородили несколько дорожек в нижней части парка, где собрались атлетического вида мужчины с приколотыми на груди номерами, ожидая, когда начнется забег. За заграждениями стояли редкие ротозеи. Возле входа расположился со своей тележкой продавец мороженого, читавший какой-то журнал.
На пластиковом щите была нарисована карта парка и дана его краткая история.
— «Калемегдан» означает «крепость на поле битвы», — прочел Майкл. — Похоже, сегодня день довольно мирный, — добавил он и принялся изучать карту. — Грубер сказал, что встретит нас возле мемориала Победы.
Они двинулись по каменистой дорожке в обход крутого берега к мысу. Здесь над водами Савы была устроена кирпичная терраса, посреди которой высилась белая колонна. На колонне была установлена позеленевшая от времени бронзовая фигура божества. Высотой в двадцать футов, бог, казалось, шагал по воздуху, обнаженный, мускулистый, увенчанный лавровым венком. Ниже террасы к реке обрывался крутой берег. Надпись на сербском и английском предупреждала: «Хождение по берегу связано с риском для жизни».
Грубера пока не было.
— Я подожду рядом с памятником, — сказал Майкл Эбби. — Ты на всякий случай отойди подальше. Мало ли что может случиться.
Эбби встала у парапета, глядя на обе реки. Даже в городе с населением в полтора миллиона здесь витало некое ощущение границы. Стоит посмотреть в одну сторону, и можно увидеть многоэтажки Нового Белграда, мосты с нескончаемым потоком машин, ржавые портовые краны в доках. Но стоит посмотреть в другую, вверх по течению реки, и вашему взгляду откроются бескрайние леса, протянувшиеся на восток до самого горизонта. Не составляло большого труда представить себе римского часового, стоящего здесь, на самом краю мира, над свинцовыми водами реки под серым небом. Вот он вглядывается в этот лес, в ожидании, что за деревьями в любой момент кто-нибудь может появиться.
Эбби отогнала мысленную картину — сейчас не тот момент, чтобы предаваться грезам — и обернулась на монумент. Майкл стоял на прежнем месте, но уже не один. Рядом с ним стояла симпатичная молодая блондинка с коляской. Они о чем-то оживленно болтали и смеялись. Издалека доносился голос главного спортивного судьи, который в рупор инструктировал участников забега.
Эбби вновь покачала головой, но на этот раз, чтобы отогнать ревность. Майкл умел располагать к себе людей: в чужой стране, практически не зная языка, он тем не менее всегда мог завязать разговор. Особенно если собеседницей была молодая симпатичная женщина.