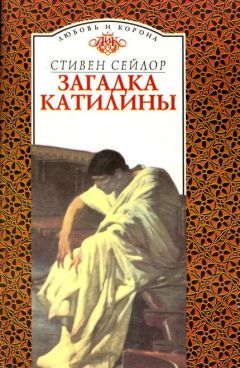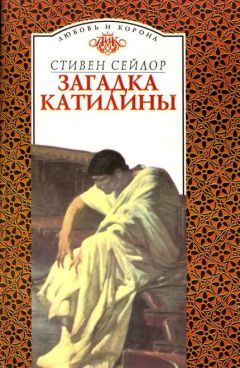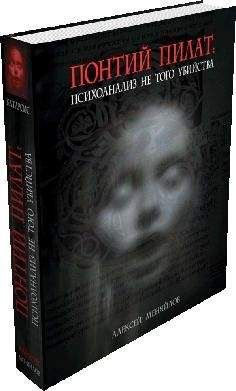— И ты заставляешь его полировать свои доспехи, словно раба!
— Нет, Гордиан, это не мои доспехи. Это его. Он хочет сражаться нарядным.
Я посмотрел на различные приспособления — на ножи, на шлем с гребнем, короткий меч в ножнах. Все они были из разных наборов и от разных людей — даже я, не сведущий в вопросах войны, мог определить это. Я постарался представить себе Метона в полном облачении и не мог.
— Кстати, об облачении, — сказал Катилина. — Как я понимаю, в честь меня Сенат решил провести церемонию, облачиться в специальные одежды, а не в обычные тоги, и население тоже должно так поступать. Это правда?
— Экон что-то писал об этом, — сказал я задумчиво, все еще разглядывая доспехи. Я как-то перестал беспокоиться. Теперь мне было все равно.
— Подумать только! Все время они так — со своими древними обычаями, которых никто уже не помнит. Смешно, но мне бы эта церемония понравилась, меня всегда интересовали вопросы моды; могу похвалиться — я заставил сменить одежду даже сурового Катона!
Я поднял глаза и уставился на него. Он покачал головой.
— Нет, Гордиан, я не сошел с ума. Надо же мне хоть чем-то позабавиться и повеселиться перед битвой.
— Битвой?
— Она начнется через час, насколько я предполагаю. Манлий и Тонгилий собирают войска, чтобы послушать мою речь. Ты прибыл как раз вовремя. Представь себе только — мог бы пропустить мою речь! Ты бы всю жизнь потом сожалел. Но даже так, если ты не хочешь быть свидетелем резни, то можешь уйти хоть прямо сейчас.
— Здесь… сейчас?..
— Да! Время пришло. Я собирался отложить сражение в очередной раз, чтобы выиграть время. Я хотел пересечь горы и выйти куда-нибудь в Галлию, по обходным дорогам, сражаясь со снежными завалами. Но когда мы дошли до перехода, знаешь что мы увидели по ту сторону? Еще одну римскую армию. Я решил вернуться и сразиться с этой. Ее, как ты знаешь, возглавляет консул Антоний. Он когда-то сочувствовал мне. Я слышал, Цицерон подкупил его, дав в управление провинцию, которая предназначалась ему, Цицерону, после консульства. Ну, и никогда нельзя утверждать заранее, что случится, вдруг он встанет на мою сторону? Я понимаю, Гордиан, что это безумная идея, только не говори это вслух! Не нужно больше дурных предзнаменований в этой палатке, пожалуйста. Обернись лучше — видишь, твой сын вернулся, как я и предсказывал.
У входа стоял Метон.
— Я пришел за своими доспехами, — сказал он.
— Помоги мне сначала с моими. Это займет немного времени.
Катилина встал и протянул руки, а Метон надел на него панцирь и прикрепил его, потом он повязал вокруг шеи малиновый плащ; поднял позолоченный шлем с гребнем и водрузил его на голову Катилины.
— Вот так! — сказал Катилина, наблюдая свое отражение в отполированном бронзовом блюде. — Не говори Тонгилию, что я позволил одеть меня, а то он обидится, что предпочли не его.
Он отвернулся от зеркала и посмотрел на нас таким взглядом, с каким человек расстается с друзьями перед долгим путешествием.
— Я оставлю тебя здесь. Ненадолго, торопись.
Метон посмотрел, как он уходит, затем подошел к углу, где лежали его доспехи.
— Метон…
— Папа, помоги мне. Не принесешь ли ты мне пластину; она каким-то образом оказалась в другом конце палатки.
Я поднял ее и поднес к нему. Он поднял руки.
— Метон…
— Это легче, чем кажется. Сначала выровняй завязки и закрепи их узлом.
Я сделал, как он просил, двигаясь, словно во сне.
— Извини, папа, что я обманул тебя. Я не мог иначе.
— Метон, ты должен немедленно покинуть это место.
— Но мое место — здесь.
— Я прошу тебя пойти домой вместе со мной.
— Я отказываюсь.
— А если я прикажу тебе как отец?
Метон облачился полностью и отодвинулся от меня, посмотрев одновременно и грустно, и вызывающе.
— Но ведь ты не мой отец.
— Ах, Метон, — вздохнул я.
— Мой отец — раб, которого я никогда не знал, и я тоже был рабом.
— Да, пока я не освободил и не усыновил тебя!
Он притопнул ногой, чтобы наколенники встали на место.
— Да, закон называет тебя моим отцом, и согласно закону, у тебя все права распоряжаться мною, ты можешь даже убить меня за непослушание. Но ведь мы оба понимаем, что в глазах богов мы не отец и сын. В моих жилах не течет ни капли твоей крови. Я даже не римлянин, а грек, а может, даже какая-нибудь смесь…
— Ты мой сын!
— Тогда я и гражданин и свободный житель, я могу поступать по своему усмотрению.
— Метон, подумай о тех, кто любит тебя, о Вифании, Эконе, Диане…
Снаружи донесся звук трубы.
— Это сигнал к началу речи Каталины. Я должен присутствовать там. Ты можешь прямо сейчас уйти, Хотя время еще есть. Папа… — Он прикусил язык и осекся, потом быстро закончил одеваться. Посмотрел в бронзовое блюдо и остался доволен. Затем повернулся ко мне. — Ну, как тебе? — спросил он, немного стесняясь.
«Понимаешь, ты ведь мой сын, — думал я, — а зачем же тебе тогда моя похвала?» Но вслух ответил — Какая разница!
Он опустил глаза и покраснел. Теперь настала моя очередь прикусить язык; но хуже было бы, если бы я сказал то, что думал на самом деле, — передо мной стоял мальчик, облаченный в нелепый костюм и собирающийся идти туда, где убивают.
— Не стоит пропускать речь, — сказал он, быстро проходя мимо меня к выходу.
Я последовал за ним вдоль всего лагеря к тому месту, где естественное углубление образовывало род амфитеатра. Мы долго пробирались среди толпы, пока не подошли на достаточное расстояние, чтобы все видеть. Трубы прозвучали еще раз, чтобы пресечь разговоры, а потом вперед вышел Катилина в блестящих доспехах и с улыбкой на лице.
— Ни одна еще речь, какой бы красноречивой и воодушевляющей она ни была, не превратила труса в храбреца, безвольную армию в победоносное войско и не послужила причиной для сражения там, где его могло и не быть. Но стало традицией произносить речь перед началом битвы, и я следую этой традиции.
Причина же этого, насколько я полагаю, — то, что во многих армиях воины редко видят своего полководца или вовсе не знают его в лицо, еще меньше у них возможностей поговорить с ним, следовательно, нужно предоставить им эту возможность и постараться наладить взаимоотношения. Но это объяснение не подходит в данном случае, так как едва ли найдется здесь человек, с которым я не переговорил лично, не помог бы в минуту трудностей или не разделил радости. Но я, тем не менее, следую традиции.
Вот я говорил, что от слов смелым не станешь. У каждого есть какая-то доля храбрости, врожденная или полученная в результате тренировок; на поле боя храбрее этого он не становится. Если человека не волнует ожидающая опасность или победа, то бесполезно воздействовать на него средствами риторики: страх в сердце делает его глухим. Но я, тем не менее, следую традиции.
«Как же необычно, — подумал я, — для римского оратора начинать речь с отрицания ее полезности, осмеивать риторику ею же самой, даже если этим ты честно открываешь свои мысли слушателям».
Лицо Катилины омрачилось.
— Вам известно, как провалились наши союзники в Риме, какой недостаток ума и сообразительности они проявили и чем это для них обернулось. Настоящее положение дел вам тоже известно. Две армии загораживают нам путь — одна между нами и Галлией, другая — между нами и Римом. Оставаться на месте невозможно, ведь скоро у нас кончится продовольствие и остальные запасы. По какой бы дороге мы ни пошли, нам придется применить свое оружие.
Поэтому я призываю вас вспомнить, какой мерой храбрости вы обладаете. Когда пойдете в бой, ваша свобода и будущее страны будут находиться в руках, которые сжимают мечи. Если мы победим, то нам достанутся города, приветственно распахивающие двери на нашем пути и снабжающие нас всем необходимым. Наши ряды пополнятся новыми силами, мы вновь увеличим численность и мощь нашей армии. Волна, идущая сейчас на нас, отразится и поспособствует нашей победе. Но если мы проиграем, против нас будет весь мир — никто даже не сможет дать приюта человеку, неспособному постоять за себя.
Помните и о том, что перед нашими противниками не стоит такая насущная необходимость. Для нас в этой битве поставлено на карту все — справедливость, свобода. А их просто принуждают идти в бой правящие круги, к которым они не испытывают никаких симпатий. Мы сами выбрали свою судьбу; мы вместе претерпели разнообразные тяготы, мы поклялись, что не вернемся в Рим со склоненными головами и не станем жить под гнетом недостойных правителей. Те, кто стоит по другую сторону, уже подчинились своим хозяевам и закрыли себе путь к переменам. Которая из армий покажет больший дух, спрашиваю я вас, — та, что глаза свои опускает в землю, или та, чей взгляд устремлен к небесам?
Восторженный крик был ответом на этот вопрос.