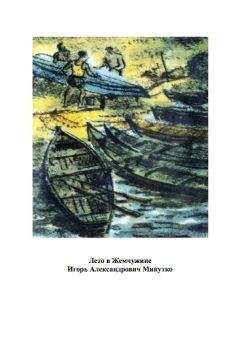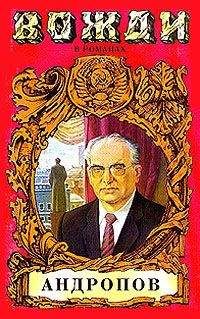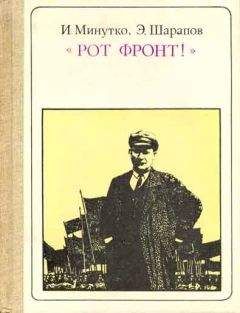По впалым щекам Марьи катились слезы.
У меня глухо, часто билось сердце.
— А как вы жили... живете со своим мужем? — спросил я.
— Как... Обыкновенно. Мы работаем. Всю жизню, сынок, работаем... — И Марья заплакала навзрыд. — Никому не мешаем, а нам — все.
— Кто ж еще вам мешает?
— Все! Все! — ожесточенно повторила она, вытирая лицо рукавом кофты. — Огород весной копаем, и спину не разогнешь, переверни-ка лопатами шестьдесят соток. А дружки Мишкины нарочно мимо нас на тракторах шлендают — вот, мол, у нас какая техника. Картохи до шоссейки на тележке везем, а оттеда я на базар с попутной машиной... Только пока до шоссейки-то доберешься—за деревней взгорок длинный, никаких силов нет. Старые мы уже. А вперегонку машины от правления. На работу народ едет. И нет чтоб пособить — один смех в спину: «Сыч с Сычихой надрываются! Гляди, кишка вылезет!» И так везде — смех, смех. И сторонятся. Ровно мы прокаженные. А теперя еще в семействе разногласия...
— А что в семействе?
— Что... — Она перестала плакать, и на ее лице были дремучая тоска и безысходность. — Думали, Вася подрастет, наследник, хозяйству на руки примет... — Она снова заплакала. — Опять же все через Мишку. Женился бы Вася на Нине — другая у нас жизня была. Да Мишка дорогу перешел. Надежду Вася взял — от тоски, от горя свово, не думавши. И в город с ей. От позору... Нашел себе пару... Чтоб она подавилась, ведьмачка. Уехали... Ладно. Хош бы помогал... Куда! Совсем его Надежда ночами перешоптала — уж не родители мы ему. А теперя — вы...
Она вдруг завыла, страшно, длинно.
Я отвернулся.
Около забора стоял Фролов и делал мне руками какие-то знаки. Да, пора кончать. Финита ля комедия. Комедия окончена. И вдруг с острой силой я ощутил непонятное, внезапное чувство вины в чем-то.
Я прошел через огород, через сад и двор. Меня провожал плач Марьи. Дверь сарая была открыта. Там, в темноте, аппетитно похрюкивал поросенок и слышался монотонный, мне показалось, добрый голос Морковина.
Как он может так?
На что он надеется?
О чем он думает?
Что происходит в его сознании?
«Если он убил...» — остановил я себя.
У калитки так же строго стояли участковые — Захарыч и Семеныч. Нетерпеливо прохаживался Фролов. Улица была полна народа.
— Все готово, — сказал Фролов. — Привез Зуева. Он мне рассказал по дороге. Дела... Будем брать?
— Да, — сказал я и повернулся к милиционерам. — Минут через пять приведите в правление Морковина.
— Слушаюсь, — сказал Захарыч, и на лице его появилась растерянность.
— Есть! — радостно крикнул Семеныч; лицо его пылало азартом.
Было двадцать две минуты третьего.
Мы с Фроловым пошли к правлению. На почтительном расстоянии за нами двинулась толпа, возбужденно, но тихо разговаривая.
У правления стояла синяя милицейская машина с красной полосой по глухому корпусу, и от этой машины, от толпы, которая двигалась сзади, от низкого серого неба... Не знаю, может быть, и еще по каким-то причинам мне стало не по себе.
В одной из комнат правления (она была пуста, видно, все ушли на улицу) быстро шагал Пантелей Федорович Зуев. Он был в военном кителе, в начищенных сапогах, очень официальный, строгий и, чувствовалось, до предела взволнованный.
— Здравствуйте. — Он подошел ко мне. — Что от меня требуется?
Я пожал его крепкую, твердую руку и сказал:
— Мы пройдем в кабинет Гущина. Туда его приведут. А вы, пожалуйста, оставайтесь здесь. Когда будет нужно, мы вас вызовем.
— Понимаю, понимаю...
Мы с Фроловым вошли в председательский кабинет. Здесь еще не рассеялся утренний махорочный дым. На столе лежали три початка кукурузы в бледно-зеленых листьях, стоял новый белый телефон, такой же, как в комнате бабки Матрены. И сейчас я больше ничего не могу вспомнить.
Мы сели на стулья. Я вынул из папки бланк допроса, подал его Фролову.
— Вас не затруднит? Вести запись?
— Конечно! Давайте. — Он взял бланк.
Молчали. Было тягостно и неловко.
И вдруг требовательно, с перерывами зазвонил телефон. Я схватил трубку. Последние часа два я не думал о Василии Морковине. Забыл о нем.
— Слушает следователь Морев! — Я не узнал своего голоса.
— Говорит дежурный областной прокуратуры старший лейтенант Вдовенко. — Голос был молодой, четкий, бесстрастный. — С Василия Григорьевича Морковина взята подписка о невыезде. Он работает на сборке охотничьих ружей. На заводе револьверы изготовляются. Но серийного производства нет. Только по заказам.
— Охотничьи ружья и револьверы собираются в одном цеху?
— Нет, в разных, в противоположных частях завода.
— Морковин мог каким-нибудь образом достать револьвер?
— Не знаю... — В голосе послышалась неуверенность. — Думаю, что нет. Их делают совсем мало. Каждый на строгом учете.
— Как вел себя Морковин, давая подписку о невыезде?
— Не знаю, я при этом не присутствовал.
— Хорошо... Спасибо.
— Что вас еще интересует? Какая нужна помощь?
— Благодарю. Ничего не нужно.
— Желаю успеха.
Я положил трубку.
— Ну как? — спросил Фролов.
— Ничего определенного.
Сейчас приведут Морковина. Сыча. Через минуту. Через две...
За дверью послышались шаги, голоса, легкая возня.
— Давай, давай, — сказал Захарыч. — Раз уж так...
Первым вошел Семеныч. На его молодом круглом лице были решительность и готовность к действию. За ним шагнул Морковин — ровный, вроде даже рассерженный; только чаще поднимались и опускались бескровные веки. Протиснулся Захарыч, потный, толстый, виноватый.
— Доставили, — сказал он, ни на кого не глядя.
И тут Морковин закричал:
— Не имеете правов! Тольки от дел отрывают! — Он размахивал руками, в тусклых глазах вспыхнул свет. — Я жалиться буду! Зазря человека винуют!
— Подождите за дверью, — сказал я милиционерам.
Захарыч и Семеныч вышли — первый поспешно, второй с явным разочарованием.
Мы остались втроем. Морковин смотрел то на меня, то на Фролова. Что-то новое появилось в его лице. Не знаю... Тень сомнения, что ли? Тревоги?
— Гражданин Морковин, — сказал я, — вы убили Михаила Брынина...
— Не убивал, — быстро перебил меня он и посмотрел на Фролова, писавшего протокол допроса. Видно, это встревожило его.
— ...убили из револьвера, который вы взяли у убитого офицера во время подавления Кронштадтского мятежа. Там еще на рукоятке гравировка есть, две буквы.
Его отбросило к стенке. Мгновенно лицо покрылось потом.
— Не убивал... — прошептал Морковин.
— Пантелей Федорович, зайдите! — крикнул я.
Вошел Зуев и остановился в двери — большой, напряженный; он все расстегивал и застегивал верхнюю пуговицу кителя.
Было тихо. Скрипело перо по бумаге.
Они смотрели друг на друга. В лице Морковина медленно происходила страшная перемена — оно теряло человеческие черты. Даже не могу сейчас объяснить, в чем это проявилось. Но я видел — видел! — перед собой лицо не человека, а зверя. Затравленного, яростного зверя. Старого зверя.
— Пантелей... — прошептал Морковин. — Пантелей...
— Неужто правда, Григорий? — Голос Зуева был полон недоумения, тоски, растерянности. — Неужто правда?
С Морковиным происходила новая быстрая перемена: словно распустились пружины, которые держали его. Он как-то странно закачался из стороны в сторону, судорога скривила его лицо, и вдруг оно стало спокойным, даже величественным. И страшным.
— Да, я убивец, — сказал он тихо. — Я кончил Мишку. — И вдруг рванул ворот рубахи, закричал истерически: — Житья мене от яво не было!.. Кровь он мою пил... Все вы... Все вы супротив меня!.. Будьте вы прокляты!..
И Морковин начал плакать, неумело, трудно, запрыгали его плечи, он закрыл лицо руками, отвернулся в угол.
— Пантелей Федорович, — сказал я. — Спасибо. Вы свободны.
Зуев не хотел уходить — ему было интересно. И жутко. Кажется, он обиделся на меня. Вышел осторожно, тихо прикрыл дверь, оставив щель.
— Гражданин Морковин, расскажите, как все это было?
Он посмотрел на меня затравленно, с ненавистью, с непониманием. Все еще с полным непониманием происходящего.
— Ладно, слухайте. — Он начал успокаиваться. — Утром, Марья как раз корову подоила, заявились Василий с Надеждой своей.
— Вы их не ждали?
— Почему не ждали? Ждали. Письмо он отписал: едут на отдых. На отдых... На харчи мои едут, а не на отдых, вот что. Одна Надежда поест всего — раззор выйдет. Хош уехали, слава тебе господи.
— Значит, нежеланные они для вас гости?
— Для Марьи Васятка, може, и желанный. А мене нет. Не нужон мене такой сын. Ладно, вы слухайте дале.
Он совсем успокоился. Теперь был Морковин, какого я привык видеть в эти два дня: неторопливый, размеренный, скучный.