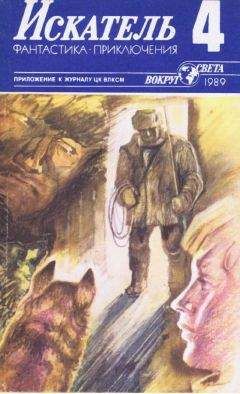Ярослав лежал на кровати в одежде и не подавал признаков жизни. На белой наволочке засохла струйка крови.
Уже не помню, что я крикнул и как начал его трясти. Инстинктивно я почувствовал, что еще не все потеряно. Потом в комнату вошла хозяйка, и я попросил ее вызвать врача, все равно какого, но как можно быстрее. Кто-то закрыл дверь и окно, затопил печку.
Когда я немного пришел в себя, то заметил, что в комнате остались только мы с Ярославом. Он посмотрел на меня стекленеющими глазами и что-то прошептал. Мне удалось расслышать только отдельные слова: «Он не виноват... она сама подожгла... должна жить... все пройдет...»
Я набросил на Ярослава еще одно одеяло, начал растирать ему ноги. Он стал дышать ровнее, и на лице его появился слабый румянец. Ярослав начал оживать. Он должен выжить!
Он узнал меня, и на его губах мелькнула слабая улыбка. Он хотел сказать мне что-то, но я не позволил ему сделать это. Подложил под голову Ярослава еще одну подушку.
Вскоре появился врач, осмотрел его, пощупал пульс, сделал ему укол и медленно закрыл свой саквояж.
Нетрудно было понять, что врач установил что-то такое, о чем ему не хочется говорить, но я пошел за ним следом. В дверях он остановился. Помолчал какое-то время, потом попросил хозяйку оставить нас наедине и чуть слышно сказал:
— Мы должны относиться ко всему так, как и подобает мужчинам. У него внутреннее кровоизлияние. Ничего нельзя сделать. Он проживет еще час, от силы два...
Уж лучше бы он ничего не говорил! Я даже не проводил врача. Постоял немного на террасе, вытер навернувшиеся слезы. Появилась хозяйка, должно быть, ее мучило любопытство, а может, она хотела проявить сочувствие. Все же она была единственным человеком, оказавшимся в тот момент рядом.
— Согрейте воды, много воды, — попросил я.
Она меня поняла:
— Неужели?
— Когда-нибудь всему приходит конец.
Хозяйка всхлипнула и убежала в другую комнату.
Теперь я уже мог войти к Ярославу. Я должен быть с ним в его последний час.
Он не спросил меня, что сказал врач. И о болезни не заговорил, а устроился поудобнее на подушке и прислонил голову к спинке кровати.
— Сегодня ночью будет ровно семь лет, как мы с тобой ушли в партизаны.
А я совсем забыл об этом. Ведь мы этот день всегда проводили вместе.
— Но я тебя оправдываю, — улыбнулся он. — Это теперь волнует только политработников вроде меня. Строевые офицеры пусть занимаются своими делами. Подай мне пистолет.
Это удивило меня, но я выполнил его просьбу. Ярослав осмотрел пистолет, стер с него пыль и, поцеловав, протянул его мне.
— Поцелуй его, как тогда. Без всяких клятв. Человек должен давать клятву только раз в жизни.
Я поцеловал пистолет и продолжал стоять как заколдованный. Голос Ярослава звучал еле слышно, и от этого становилось жутко.
— Открой окно, — попросил он и сел в постели. Три выстрела прозвучали в комнате и рассекли молчание ночи, опустившейся над городом. — Тогда нас было только трое в нашем краю, а теперь весь народ вместе с нами. Не забывай об этом!.. — Он вложил пистолет в кобуру и снова опустился на подушку.
На улице послышался цокот лошадиных копыт, мимо проехал милицейский патруль. Милиция всегда в тревоге, когда раздаются выстрелы. Я вдруг ощутил необычный подъем, словно в меня вселились силы трехсот, трех тысяч, нет, трехсот тысяч человек... У меня в ушах звучали выстрелы, а я вспомнил сражения, схватки, фронтовые события... Ярослав совсем не переменился, он остался верен себе.
— Драган вконец запутался. Нет мне покоя из-за него, — прошептал Ярослав и прикрыл глаза.
— Помолчи!
— Нет, пора поговорить. У меня осталось мало времени.
Ну как он мог произнести такое?! Мне захотелось крикнуть изо всех сил, крикнуть от муки, от боли, а Ярослав снова открыл глаза и засмотрелся на падающие снежинки, оседавшие на стеклах окна.
— Красиво, не правда ли? Чудесная зима.
— Бывали дни и лучше, — ответил я.
— Но голодные, — договорил Ярослав.
— Я пришел... — Я хотел сказать ему, что мне больно за те слова, которые я произнес накануне, но он только махнул рукой:
— Не говори о том, что уже прошло. Я забываю все плохое. Только доброе поддерживает человека.
— Ты же сам знаешь, что я... — упрямо продолжал я.
— Ну что вы за люди! Каждый хочет услышать доброе слово, а если этих слов нет и у нас нет времени их придумывать? Драган, как верный пес, не отходит от меня. У него же голова раскалывается от боли, а он хочет увидеть мир таким, каким себе его нафантазировал. Настоящий Дон Кихот, только жестокий и к другим и к самому себе. Драган готов умереть, лишь бы взять верх... Но я люблю его, черта.
Ярослав закашлялся. Прижал руки к груди и молча посмотрел на меня, взглядом умоляя отвернуться, чтобы я не видел его страданий.
Я подхватил его, и он, обессиленный, опустился на мои руки.
— Ни слова больше, — рассердился я. Ярослав попытался унять приступ кашля и снова лег на подушку.
— Но я его выведу на правильный путь, непременно выведу, — прошептал он. Мне показалось, что именно это твердое решение, принятое им, прибавило ему сил. — Раз я рядом с ним, раз мы все вместе...
На террасе послышались шаги, и кто-то резко толкнул дверь. В проеме появился Павел. Раскрасневшийся, задыхающийся от бега, он едва выговорил:
— Она сама себя подожгла!.. Живая, она горела, как факел, как факел протеста, а вы сидите здесь в тепле, рассуждаете о мире, не замечая, что у вас тоже земля горит под ногами!
Я знаками пытался заставить его замолчать, но Павел ничего не замечал. Потом он опустился на стоявший в углу стул.
— Врачи уверяют, что нет ничего страшного. Врачи... А что может быть страшнее того, что человек в здравом рассудке сам себя поджег? Когда я поднял ее на руки, она меня не узнала. Туфли на ней горели, и сумка, а вся она почернела, но непрестанно повторяла: «Костер, Жанна д’Арк...»