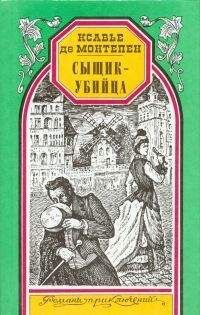Старший чиновник был маленьким старичком, который в течение тридцати лет сидел на одном и том же кожаном стуле. Он принял Пьера с добродушной любезностью.
— Я хотел бы узнать, что стало с ребенком, доставленным сюда, — сказал Пьер.
— Когда?
— О! Это было давно: ночью 24 сентября 1837 года.
— Зачем вам эта справка?
— Просто мне нужно знать…
Чиновник улыбнулся:
— Я хорошо понимаю, что вы имеете желание знать. Но мне нужно знать причину этого желания. Вы родственник или знаете его семью?
— Хорошо. Я вам все объясню. Вот в чем дело: это я принес ребенка и, вследствие случая, имею повод думать, что могу найти его родителей…
— Одним словом, вы желаете знать, жив ли ребенок?
— Прежде это, а затем, где можно его найти, если мы действительно отыщем его семью.
— Хорошо, представьте вашу просьбу на гербовой бумаге, точно указав день и час сдачи ребенка, и, кроме того, прибавьте еще какое-нибудь указание, которое сделало бы невозможной ошибку.
— Но, сударь, все это очень сложно, а вам было бы так легко ответить мне сейчас же — стоит только посмотреть в книгу.
— Эти формальности необходимы, — ответил старик.
— Видите ли, дело в том, что мне нужно скорее знать… Не можете ли вы обойтись без формальностей?
Чиновник улыбнулся.
— О! Это невозможно! Таковы наши правила, но чтобы сделать вам приятное, я дам вам лист гербовой бумаги и под вашу диктовку сам напишу просьбу, которую отнесу к директору, который выразит на нее свое согласие, и тогда я отвечу вам точно так же бумагой. Эта официальная бумага будет иметь для вас большую важность.
— Когда могу я ее получить?
— В шесть часов, после закрытия бюро.
— Черт возьми! В шесть часов я занят! Не можете ли вы прислать ее мне с комиссионером? Я оставлю деньги.
— Конечно!
— Благодарю вас. Идите за бумагой и пишите.
Под диктовку чиновник написал следующее:
«Я, Пьер Лорио, кучер и содержатель фиакров, живущий в Париже на улице Удино, 9, сим утверждаю, что ночью 24 сентября 1837 года, в два часа ночи, я отдал в воспитательный дом ребенка мужского пола, которому казалось около двух лет; к платью ребенка я пришпилил бумажку с номером 13. Он был найден мною за час до того под воротами одного дома на Елисейских полях. Желая знать, что с ним сталось, я имею честь просить администрацию дома ответить на следующие вопросы:
Во-первых, под каким именем был записан ребенок? Во-вторых, жив он или умер? И в-третьих, если жив, то где находится и чем занимается?
Я заявляю, что имею причины предполагать, что могу найти его родителей».
— Это все, что надо, — сказал чиновник, — подпишите, и все будет кончено.
Пьер Лорио подписал свое имя с большим росчерком, поблагодарил и ушел.
— Сегодня вечером, — прошептал он, — я узнаю, что сталось с ребенком.
В тот же самый вечер, в девять часов, Анри де Латур-Водье, в сопровождении доктора и Рене, должен был отправиться к Жану Жеди.
Старый вор сильно изменился. Но он жил, несмотря на ужасную рану, которая должна была быть смертельной.
Этьен употребил все свои знания, чтобы облегчить состояние больного и дать ему возможность отвечать на вопросы адвоката и подписать заявление.
Сиделка, приведенная доктором, исполняла свои обязанности с аккуратностью и безупречным усердием. Она сама делала перевязки, и ее ловкость указывала на большой навык.
Жан Жеди сидел в кресле перед камином, в котором горел яркий огонь. Мадам Урсула — так звали сиделку — готовила бульон.
— Итак, — спросил раненый слабым голосом, — вы думаете, что я выздоровлю?
— Я убеждена в этом, господин Жан.
— Может быть, вы говорите так, чтобы успокоить меня?
— Нет, даю вам честное слово; доктор отвечает за вас.
— Да?
— У вас хорошее здоровье.
— И удар ножом был тоже недурен.
— Но он, без сомнения, не затронул никаких важных органов, и через несколько дней вы будете ходить.
Жан Жеди с сомнением покачал головой.
— Вы мне не верите?
— Мне кажется, что доктор ошибается: со мной покончено.
— Вы можете только повредить себе, думая так. А между тем вы хотите жить.
Глаза старого вора сверкнули.
— О! Да! Я хочу жить!… — глухим голосом прошептал он. — Жить, хоть столько, чтобы заплатить мой долг тем, которые два раза хотели убить меня.
Мадам Урсула не слышала его.
— Нужнее всего вам в настоящее время деревенский воздух. Через два месяца вы поправитесь.
Бледное лицо больного оживилось.
«Если я поправлюсь, — думал он, — я уеду туда, в мой домик в Гавре, и буду жить спокойно, забыв то зло, которое сделал!»
— Вот и ваш бульон, — продолжала мадам Урсула. — Но нужно было бы красного вина, которое вам велел пить доктор, а у меня нет больше денег.
— Они у вас будут, только для этого нужно пойти во двор.
— Во двор?… — с удивлением повторила сиделка.
— Да. На заднем дворе, на грядке, вы увидите куст лилий. Возьмите лопату, которая стоит у домовой стены, начните рыть яму у куста лилий и найдете там четырехугольную жестяную шкатулку, которую принесете мне. Это моя касса, я там прячу деньги.
— Вот идея! — вскричала мадам Урсула. — Если бы вы умерли, не сказав ничего, вашим наследникам ничего бы не досталось!
— У меня нет наследников.
— Хорошо, я иду за вашей шкатулкой.
Сиделка вышла.
Оставшись один, Жан Жеди опустил голову на грудь и задумался.
«Правда, — думал он, — если бы я умер, то в один прекрасный день какой-нибудь дурак нашел бы это. При одной мысли меня разбирает досада. Если я умру, кому все достанется? Правительству. И деньги, и домик оно возьмет себе!… Но нет, я знаю, что сделаю…»
Вошедшая сиделка прервала его монолог: она несла в руках металлическую шкатулку.
— Вот ваша шкатулка, — сказала она, смеясь. — Она не тяжела. Если в ней золото, то, должно быть, немного.
Жан Жеди, не отвечая ни слова, открыл шкатулку не без труда, так как шарнир начинал ржаветь.
Сиделка, с любопытством следившая за ним, воскликнула от удивления:
— Банковские билеты!… Боже мой! Да это целое богатство!
— Да, но я не буду зарывать его. Вот вам билет в тысячу франков, разменяйте его, затем положите деньги в эту шкатулку, а шкатулку в комод.
— Хорошо, господин Жан, я куплю красного вина.
— Хорошо, купите мне также лист гербовой бумаги.
— Вы хотите написать завещание?
— Может быть.
— И вы правы, так как от этого не умрешь. Я ухожу и запру вас на ключ.
— Да, заприте хорошенько. Если я умру, — продолжал раненый, когда сиделка вышла, — то, по крайней мере, мне хочется исправить, хоть отчасти, сделанное мною зло.
Сиделка вернулась через полчаса, принеся провизию, вино и гербовую бумагу.
— Я положу бумагу на комод, — сказала она, — вы можете взять ее, когда захотите.
Жан Жеди выпил бульон и немного вина, затем спросил, который час.
Сиделка посмотрела на часы, стоявшие на камине.
— Скоро девять. Вам пора ложиться спать. Вы очень утомились.
— Нет, напротив. К тому же доктор, может быть, придет сегодня вечером.
— Он ничего не сказал.
— Все равно, мне кажется, что он придет, и я хочу подождать его.
— Как хотите. Я приготовлю себе постель.
В эту минуту послышался тихий стук.
Старый вор стал прислушиваться.
— С улицы стучат, — сказал он. — Я слышу.
— Кто может прийти так поздно?
— Вероятно, доктор. Идите скорее.
Сиделка поспешила открыть дверь.
Действительно, это был Этьен Лорио в сопровождении Берты, Анри де Латур-Водье и Рене Мулена.
Увидев столько народа, сиделка вскрикнула от удивления, но Этьен остановил ее.
— Как здоровье нашего больного? — спросил он.
— Все лучше и лучше, — ответила мадам Урсула.
— Он, вероятно, лег спать?
— Нет, он сидит у огня. Он ждал вас сегодня вечером.
— Идемте к нему.
Жан Жеди слышал разговор и с нетерпением поглядывал на дверь.
Этьен появился на пороге. Глаза раненого весело засверкали, но лицо его сейчас же омрачилось, когда он увидел за доктором Анри де Латур-Водье, которого сразу не узнал, и Берту Леруа, с трудом двигавшуюся, опираясь на руку Рене.
Присутствие Берты заставило его вздрогнуть, он хотел встать, но Этьен жестом остановил его.
Берта, встретившись лицом к лицу с убийцей доктора из Брюнуа, почувствовала, что сердце ее сжалось, и ее маленькая ручка невольно задрожала в руке Рене.
Жан Жеди заметил это. Он протянул к ней руки, губы его зашевелились, он опустился с кресла на колени в умоляющей позе, и слезы полились у него из глаз.
— О! Простите меня… Простите!… — прошептал он хриплым голосом.
Эти слезы раскаяния глубоко взволновали всех. Сама Берта чувствовала, что гнев и ненависть растаяли, как снег под лучами солнца.