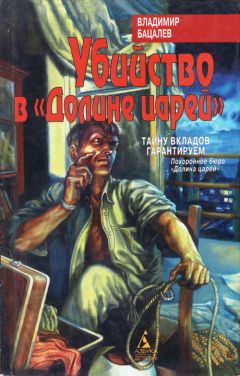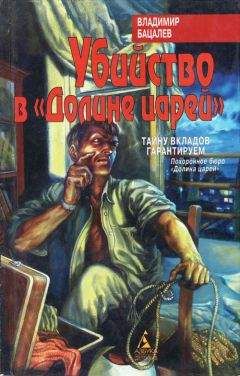— Ты подлец! — говорила она после каждого глотка.
— Согласен.
— И дурак набитый!
— Возражений нет.
— И скотина!
— В точку.
— Я за тебя замуж не пойду!
— Этого и не требуется, — искренне ответил я.
— А как же? — удивилась она.
— Найдем выход…
Когда мы уже приготовились подремать от переутомления, в дверь сначала настойчиво зазвонили, потом требовательно забарабанили кулаками. Я подошел к двери и спросил:
— Кто там такой шустрый?
— Открой, ублюдок! — по голосу я опознал Опрелина.
— Не могу, я голый.
— Ублюдок! Ублюдок! — эхом разносилось по подъезду.
Я вернулся в комнату и сказал Ольге:
— Кажется, твой муж в гневе, а черного хода у меня нет.
— Что будем делать? — спросила она.
Но Опрелин все решил за нас. Видимо, разбежавшись, он плечом вышиб дверь и возник в комнате. В руке Опрелин держал пистолет. Я попытался выбить опасную игрушку ударом ноги, но промазал и только лягнул дурака. Опрелин с перепугу выстрелил. Боли я не почувствовал, поэтому закрыл глаза, перестал дышать и, двигаясь наощупь, вытащил Кувыркалкину на балкон.
Минут через пять она очухалась в слезах, а Опрелин, как я видел через стекло, лежал посреди комнаты без чувств. Бедный малый, по-моему, не прочитал в инструкции, что из газового пистолета нельзя стрелять в плохо проветриваемом помещении. Теперь, по крайней мере, месяц в квартире будет вонять газом, а я, по необходимости, оставлю для воров открытыми окна и уеду на море. С тысячей долларов я не пропаду на любом курорте.
На самом деле мне было не до смеха, хотя что может быть комичней: голые любовники сидят на балконе в марте месяце, а ревнивый муж отдыхает от подвигов посреди комнаты. Из дома напротив нас уже разглядывали любопытные, один даже щелкал фотоаппаратом, а нам, кроме носков, и прикрыться нечем: я, чтобы не стирать их каждый день, вывешивал через сутки проветриться. Ладно, потом я этому щенку с фотоаппаратом уши оторву.
— Какой же идиот твой муж! — сказал я Кувыркалкиной. — Пусть теперь тут живет, а я к нему перееду.
Ее трясло от холода, газа и рыданий.
— Он меня любит, а я дурная.
— Он не тебя любит, а свою собственность в твоем лице любит.
— Ничего ты не понимаешь, ты циник. Ты хуже Кашлина.
— Тогда забирай своего обормота и проваливай, а мне надо дверь чинить.
Я дал проветриться комнате, чтобы в нее хотя бы можно было зайти и не рухнуть без чувств, оделся сам, выбросил одежду Кувыркалкиной на балкон и вернул в чувство Опрелина водой и пощечинами. Потом вбил три гвоздя в дверь, отволок Опрелина к его «УАЗику», закинул вместе с супругой в фургон и отвез к ним домой.
Решив, что на сегодня с меня приключений достаточно, я пошел ночевать к банщику Леше…
Спецполиклиника для закоренелых помех режиму и его представителям оказалась всего лишь отделением в тривиальной психушке, правда, под усиленной охраной. Меня не пропустили. Никакие журналистские удостоверения и ухищрения не помогли и часы свиданий не предписывались, даже в передачах из продовольствия несчастным было отказано. Наверное, тут обитают организаторы терактов на генсека, президента и правительство, — решил я, потому что из охранников не выудил ни слова. На всякий случай походил под окнами, но никто не выглядывал. Видимо, и это запрещалось под страхом ледяной ванны. Случайно я поймал главврача или кого-то близкого по иерархии.
— Мне бы поговорить с одним вашим подопечным по фамилии Размахаев.
— Такого не знаю.
— Он лежит у вас со времен Брежнева!
— Вы ошибаетесь.
— Могу я посмотреть список пациентов?
— Нет, — главврач уже миновал охранников.
— я все равно получу разрешение! — с отчаяния крикнул я вдогонку.
— Вы получите неприятности, — обещал мне главврач спиной.
Ну и сволочь! На таких вот и держится любая система. Просто кулаки чешутся! Встретить бы этого «ученика» Гиппократа в тихом переулке, глядишь, у Поглощаева одним клиентом стало бы больше.
На всякий случай я заглянул в справочный стол больницы, но тоже бестолку. Сгинул некто Размахаев, растворился на одной шестой части суши и никому до этого нет дела, даже жене, в нашем скотском обществе. Так из стада уводят на убой, а стадо мирно щиплет травку.
Я встал посреди улицы, раздумывая, что делать дальше. С утра меня тешила надежда на встречу с Размахаевым, из которого я наверняка вытянул бы кое-что существенное, но оказалось — грош мне цена как журналисту и сыщику, не справился с простеньким заданием и запасного плана не выдумал. Но никакого плана, собственно, и не требуется: раз не вышло с мужем, нужно добить жену по паспорту. Должна она знать, как превратилась в роковую женщину и почему муж сошел с ума или его сошли. Поэтому я поехал к Размахаевой и у дверей почти нос к носу столкнулся с Навыдовым.
— Ты же взял деньги и обещал не следить за мной! — сказал он.
— Во-первых, я подошел с противоположной стороны. А во-вторых, вы не «тыкайте», Навыдов. Я еще не член вашей бригады: не интер-, не могилокопатель.
Он хмыкнул:
— Тебя все равно не пустит вахтер.
Так и вышло. Навыдов прошел, а меня задержал внизу парень с задницей, отъеденной на ширину плеч. Но я поговорил с Размахаевой по диктофону, и парню пришлось отойти в сторону.
В квартире, кроме зиц-вдовы и Навыдова, я обнаружил и Терентьевича в домашних тапочках.
— Тебя только пистолет остановит, — сказал мне Навыдов что-то вроде комплимента и стал делать Терентьевичу знаки, приглашая поговорить наедине.
— Нам нечего скрывать, — сказал Терентьевич. — Говорите при всех.
Навыдов передал конверт.
— Это загранпаспорта с визами, — объяснил он скорее мне, чем своему шефу. — И там же советский паспорт Марины Степановны со штампом, что ее брак считается недействительным.
— Но ведь она еще позавчера была замужем! — удивился я.
— А вчера я ее развел.
— Дорого, наверное, заплатили за спешность.
— Не из твоего кошелька.
— Где же взяли мужа?
— Его согласия, как недееспособного, не потребовалось.
— С вами не соскучишься, господа, — сказал я. — Только начнешь привыкать, что гражданка Размахаева замужем, а она уж опять по закону девица.
— Кстати, Марина Степановна, я забыл вас спросить, — влез Навыдов, — не хотите ли вернуть девичью фамилию?
— Замолчите, идиот! — закричала экс-Размахаева. — Господи, как вы мне все надоели! Дурак на подлеце, подлец на Дон-Кихоте, Дон-Кихот за компанию с человеком, от которого я прячусь с пятнадцати лет! Не поеду я ни в какую Югославию и женой вашей никогда не буду! Слышите, Терентьевич! Поставьте тапочки моего мужа на место и уходите!
— Успокойтесь, — сказал Терентьевич. — Нельзя себя так вести.
Размахаева сорвала с его ног тапочки и демонстративно сунула в карманы халата.
Будь я на месте Эркюля Пуаро, немедленно заключил бы, что все дело именно в тапочках, что муж Размахаевой перед сумасшествием напитал их ядом, сотворив таким нехитрым образом тайну роковой женщины. Но я не любил Агату Кристи за обилие шаблонных романов и поэтому спросил:
— Тапочки дороги вам как память?
Размахаева не слышала меня. Она повторила Терентьевичу:
— Если вы порядочный человек — немедленно оставьте мой дом. И забудьте меня. Может быть, вы и очень хороший, добрый, внимательный, но я вас не люблю. Вам со мной будет плохо, и мне будет плохо. Прощайте. А за развод спасибо, сама бы я вовек не собралась.
Навыдов с Терентьевичем ретировались, видимо, до лучшего расположения духа хозяйки, а Размахаева легла немного порыдать в подушку.
— Все это очень забавно и интересно, если только не первоапрельский розыгрыш.
— А вам что еще надо?
Я хотел сказать: тапочки примерить, может быть, я искомый золушок, — но только пожал плечами.
— Что надо? — не унималась Размахаева. — За деньгами пришли? Забирайте под расписку, — она вытащила из-под кровати «дипломат».
Я открыл его и от удивления присвистнул:
— Сколько тут?
— Как сколько? Миллион.
— Тот самый, что Шекельграббер должен был отдать за документы?
Теперь уже она посмотрела на меня, явно ничего не понимая.
— Вы же сказали вчера Поглощаеву, что знаете убийцу Шекельграббера!
Я совсем растерялся. Из ее слов выходило, что, раз я знаю убийцу, я должен знать, что деньги именно у Размахаевой. Видимо, так она и объяснила себе мой приход.
— Это был блеф. Я смотрел на реакцию Поглощаева, — пришлось хоть что-то ответить.
И тут же получил две оплеухи и истерику в виде безболезненного приложения. Хотел было ответить, но вспомнил, что из всего женского рода бил только подушку, и опустил руку.
— Вы хуже подлеца, вы — ничтожество! — сказала она, очнувшись.