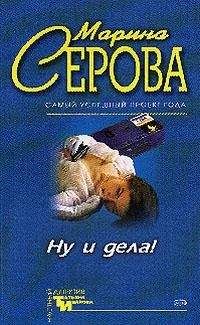Я ждала.
Наконец ее окурок полетел в воду, и она вновь заговорила.
О том, что меня интересовало больше всего.
— Когтев всегда был лидером.
Вы же знаете, это как чувство ритма, как музыкальный слух, от природы — или есть, или нет. Этому не научишься.
Слух был у Димы, но он вырос без отца и не умел бороться с мужчинами.
Когтеву медведь на ухо наступил, но он всегда и во всем был первым. Он был крепким пацаном из этого парка и силу своего слова подкреплял силой своего кулака.
Я знаю, кто он сейчас. Так и должно было случиться. У него уже в школе была своя команда.
Помню, в девятом классе на пустыре, который видно из окон учительской, школьники во главе с Когтевым устроили ужасную драку с парковой шпаной. Из-за того, кто будет контролировать танцплощадку в парке. Чтобы попасть на танцы, мало было купить билет за двадцать копеек, нужно было столько же заплатить парням, постоянно торчащим у входа.
Когтев решил отвоевать эту площадку у парковских. И спровоцировал их на драку. Восемь мальчишек попали в больницу с переломами и черепно-мозговыми травмами. Кто-то из учителей увидел в окно, как они лупят друг друга арматурой, и вызвал милицию.
У Когтева это был третий привод, но никто из школьных мальчишек не сообщил милиции, что драка организована им. Через неделю Когтев уже в одиночку жестоко избил лидера парковских, и танцплощадка стала его собственностью.
Ольга Николаевна вдруг порывисто повернулась ко мне и схватила меня за руку. Она была чрезвычайно взволнована.
Я хорошо понимаю женскую психологию, поскольку она мне знакома, хоть я и отношусь к женщинам совершенно другого типа, чем Ольга Николаевна. Если бы я слышала эту историю из третьих уст, я не удержалась бы от жестокого сарказма. Но Ольга Николаевна была так искренне взволнована, а я столь погружена в исследование взаимоотношений людей, о которых она рассказывала, что ее волнение передалось мне.
Хотя причина моего волнения была, конечно, совершенно иная — близилось объяснение мучившей меня загадки, от решения которой зависела и моя судьба.
Поэтому сентиментальность тона и порывистость ее движений не вызвали моей обычной в таких ситуациях внутренней насмешки.
— Дима тоже участвовал в той драке. Ему сломали руку.
Он всегда, все школьные годы был рядом с Когтем. Наверное, это была дружба. Странная дружба, сотканная из противоречий. Причиной которой было не родство, а уродство наших детских душ.
В каждом из нас жил сирота, чем-то обделенный и жадно тянущийся к любому, у кого в избытке было то, чего недоставало ему. Когтев был «большим», взрослым уже в детстве, Дима остался ребенком на всю жизнь.
Коготь фактически заменил ему отца в школе жизни. Дима учился у него и стремился его превзойти. Когтев хорошо чувствовал это, не знаю, насколько он понимал это головой, но чутье у него звериное. Он всегда знает, как относится к нему человек.
Он и сам соперничал с Димой. Дима был развитее его, знал гораздо больше, он был начитан, хорошо разбирался в литературе, музыке. С ним интересно было говорить о людях, о книгах, о жизни. Он мог понять человека, встать на его место, посмотреть вокруг его глазами.
Дима понимал, что жизнью управляют высшие законы, против которых человек бессилен. Когтев знал только один закон — закон своих желаний. Он был всегда самым главным авторитетом для себя. Единственное, в чем он чувствовал неуверенность, — в общении с образованными, интеллигентными людьми. И прятал свою неуверенность под грубостью и своим каким-то бандитским высокомерием. Он не мог превзойти Диму в человеческом, личностном развитии и давил его своей психологической силой.
Когтев, я думаю, ненавидел его все годы, которые они дружили, и потому старался унизить, подчеркнуть свое превосходство. Дима, по-моему, отвечал ему взаимностью. Внешне это была обычная дружба двух мальчишек, но, когда я взглянула на нее изнутри, с Диминой стороны, мне стало страшно. За Диму. Когтев заставлял служить себе, выполнять его волю и забывать о своей.
Теперь я понимаю, что Когтев просто оправдывал свою жизнь в собственных глазах, доказывал свою правоту и свое право на существование. Но тогда, восемнадцать лет назад, мне просто стало страшно. Я решила спасти Диму, забрать его у Когтева. Глупая и наивная девчонка…
Моя правота, а я была уверена, я знала, что права, моя правота казалась мне моим главным оружием, против которого Когтев ничего не может сделать. Ведь он же был не прав…
Он не стал ни о чем со мной спорить, он даже разговаривать со мной не стал, просто молча выслушал мой взволнованный обвинительный лепет, странно так улыбнулся и ушел, не сказав ни слова. Не знаю даже, понял ли он, что я ему говорила, но одно он понял определенно — я заявляю на Диму свои права. Я хочу отобрать у него его собственность. Всех людей, которые от него зависели, он считал своей собственностью. И Диму тоже…
Вскоре после этого, может быть, через неделю или дней через десять, Дима пришел ко мне пьяным, чего раньше не было, он вообще очень редко пил, и был со мной очень резок, даже груб. Всегда внимательный ко мне, благодарный за мою к нему любовь, он в тот раз не говорил мне ласковых слов, он просто грубо, как животное, взял меня, фактически изнасиловал. А потом расплакался и сказал, что убил человека…
Я успокоила его и убаюкала, как ребенка. А затем взяла кухонный нож и пошла искать Когтева.
Он был на танцплощадке и пил вино со своими холуями. Увидев мой ножик, он рассмеялся очень довольно, и я поняла, что все это случилось из-за меня. Я кричала, что все равно убью его, они смеялись надо мной.
А потом четверо парней, что пили с ним вино, притащили меня сюда, на эту лавочку, и жестоко, страшно изнасиловали. Когда они меня оставили, пришел Когтев и, убедившись, что я способна его понимать, сказал: если я хоть кому-то скажу о том, что со мной сделали, Димка умрет…
Он очень точно выбрал момент для своих слов — они лишь встали в ряд за только что совершенным надо мной насилием и стали для меня столь же реальны. Я не сомневалась, что Когтев выполнит свою угрозу, и никому ничего не сказала. И уж конечно, Диме.
Я просидела над ним до утра и гладила его такое любимое лицо, и во сне отмеченное печатью какого-то неизгладимого страдания. Дима ушел утром, так и не узнав, что со мной произошло. Ко мне он больше не вернулся…
Когтев сам рассказал ему, что со мной сделали. Он заставил Диму отвернуться от меня. На мне стояло клеймо, я стала для них «грязной».
Это очень странный народ — мальчишки, живущие по взрослым, волчьим законам. Сильный старается загрызть слабого и сам становится жертвой еще более сильного. Даже те парни, что надо мной надругались, смотрели теперь на меня с презрением.
Дима пил и лез в драку с каждым, кто встречался ему на пути. Но только не с Когтевым.
Однажды мы встретились с ним случайно, здесь, в парке. Я старалась поймать его взгляд, но он отвернулся в сторону и сплюнул.
Я пришла сюда, на эту скамейку, и просидела здесь всю ночь, думая только об одном — умереть и избавиться от этой муки. А утром собрала вещи и уехала в Москву, поступать в педагогический…
Пережив самое трудное в своих воспоминаниях, она опять замолчала. Я внимательно посмотрела на нее. Передо мной сидела опустошенная, мертвая женщина. Бывшая женщина. Пусть недолго — месяц, неделю, день, но ей удалось ощутить себя женщиной. Пусть она была за это жестоко наказана. Но сколь многие из нас, становясь женами и матерями, так и не становятся женщинами. Слабые и жестокие мужчины убили в Ольге Николаевне женщину, и теперь только страдания делают ее похожей на живого человека.
Я закурила сама и предложила сигарету ей, чтобы вывести ее из оцепенения.
— Ольга Николаевна, а как сейчас живет Дима? Вы его не видите?
Она посмотрела на меня с горьким, страдальческим недоумением. Что же ты, мол, а еще детективом себя называешь. Впрочем, я уже догадывалась, что я сейчас услышу.
— Десять лет назад чеченцы всех парковских постреляли. Почти всех. Когтев выжил. Диму тогда тоже застрелили.
Как она все это время ни крепилась, губы ее задрожали. Она заплакала, достала платок и подошла к самой воде, повернувшись ко мне спиной.
Я поняла, что приступ откровенности прошел и теперь она меня смущалась, словно человек, вдруг обнаруживший, что стоит обнаженным перед одетым собеседником.
Пора было уходить. Я подошла к ней, коснулась руки и тихо сказала:
— Извините меня, Ольга Николаевна…
Она молча кивнула головой.
Не люблю причинять боль ни в чем не повинным людям.
Чтобы обдумать ситуацию, я не нашла ничего лучшего, чем забраться на тихую, практически непроезжую улочку, поставить машину в тени густого старого вяза и, закрыв глаза, откинуться на сиденье.
Вот тебе и мотив. Сколько угодно мотивов.