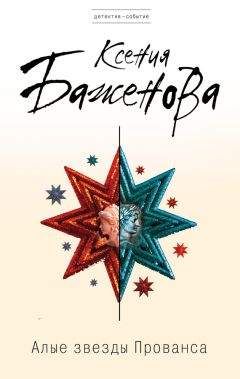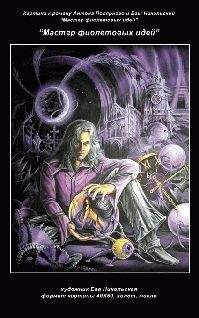Дровишек в огонь распалявшегося отчуждения добавлял месье де Бриссак. Тесть пил ежедневно. Пьер перестал обращать на это внимание, если последствия от возлияний никак его не касались. Обычно месье де Бриссак околачивался по местным барам со своим бывшим слугой и часто оставался ночевать у него. Или тихо прокрадывался домой. Когда он узнал, что картины проданы, попытался устроить скандал. Но Пьер осадил его, сказав, что если тот не хочет попасть в дом престарелых, а того хуже умалишенных, пусть ведет себя посдержаннее и радуется, что его картины пошли на благое дело, а не были проданы за копейки и пропиты в ближайшем кабаке. И пусть примет во внимание, что это не они, а он, Пьер, оказал честь их жалкой разорившейся семейке, когда женился на Адели, потому что ее, малахольную, анемичную селедку, никто бы не взял замуж с таким папашей и таким приданым. Теперь де Бриссак обсуждал это только втихаря с дочерью, которая беседу не поддерживала, или со своим слугой Бо. С Пьером же он предпочитал не общаться.
Мари росла такая же худая и замкнутая, как мать. Но это, пожалуй, было единственное сходство. В ней все же проявилась отцовская крепость, и волосы у нее были темные. Она была упертая и серьезная, ничего не боялась и росла совершенно не по-детски самостоятельной. Пьер, возможно, даже полюбил бы дочь, если бы не ее полнейшая отстраненность от него. Нет, она не скандалила, ничего не просила, не огрызалась, как большинство обычных детей. Просто молча делала то, что он ей говорил. Кстати, к матери она тоже не испытывала особенных чувств, но все же как могла следила за ней и помогала. С каждым годом Адель все больше уходила в себя. Может быть, этому способствовало и лечение, назначенное психиатром. Как-то, когда Мари не исполнилось и года, Пьер отвел Адель к врачу, слишком странным казалось ему поведение жены. Та не сопротивлялась и прописанные таблетки принимала аккуратно по расписанию. Иногда в ней даже мелькали какие-то проблески жизни, и она принималась за дочь и за хозяйство, но все заканчивалось разбитой посудой, испорченными продуктами и пригоревшими сковородками.
Больше всего Мари любила деда и чердак, на котором в беспорядочную пыльную кучу были свалены останки имущества семьи де Бриссак, которые она обожала разглядывать и нюхать. Они пахли совершенно другим домом и другой жизнью. Там обосновались старые поломанные куклы, неработающие лампы, жестяные и деревянные коробочки, развалившиеся табуретки и этажерки, перекошенные рамы, фотографии женщин в длинных платьях и шляпах и элегантых мужчин, детей в смешных платьицах и ботиночках, склеенные вазы… Она любила маленькое окно, сквозь которое видно было луну, и когда та выростала полная, Мари обожала смотреть на нее. У нее была круглая коробочка в розах, в которой хранились рассыпавшиеся жемчужные бусы, и Мари доставала самую крупную жемчужину и разглядывала, как она, круглая и белая днем, переливается желтоватым перламутром от лунного света и становится немножечко кривой. Мари думала, что она похожа на эту бусину, вроде стоит Мари, вот как есть, обычная девочка, а поверни ее под другим углом – и открывается другая сторона. А днем, если светило солнце, Мари любила разглядывать его в разноцветные стеклышки, которые она выломала из старого плафона. Они хранились в другой жестяной коробочке, разрисованной потертыми бабочками. Мари рано поняла, что в ее семье существует какой-то серьезный перекос, и вроде самым нормальным в ней, с точки зрения общества, должен считаться отец. Но когда она проникла в смысл слова, которым называлась профессия ее отца, и подумала об атрибутах, которые это слово окружают, испытала настоящее отвращение. Она наблюдала, как он относится к маме, к деду, к людям и к ней самой и осознала, что ничего ему так не мило, как мясная туша, деньги и мнение окружающих о нем, как о достойном человеке. Семья мешала наслаждаться ему тем, что для него важно, и он очень стеснялся их всех. Мама жила в другом мире, а дед пил. Но зато, если месье де Бриссак ночевал дома и еще кое-что соображал, то можно было забраться к нему на кровать и слушать совершенно сказочные рассказы о славном прошлом аристократического семейства. Вот с дедом у нее и была полная взаимность. И еще Мари обрела двух друзей, когда пошла в школу. Их звали Тони и Макс.
Мадам Аннет
Франция, городок Ситэ, 1980-е
Мадам Аннет – миниатюрная и миловидная женщина, вобрала в себя энергию ветряных мельниц Прованса, грохот и силу альпийских рек, изящество и осторожность горных козочек и напор снежных лавин и очень гордилась тем, что родилась, выросла и училась в Марселе и до сих пор продолжает дело своих предков.
«Мы – промышленники, – любила говорить она. – Наша семья наладила поташное производство еще в 16-м веке». На самом деле это означало, что давний ее предок всего-навсего жег где-то в лесах дрова и валежник, чтобы получить золу, которая по-научному называется поташ, – вот ее он и продавал мыловарам и производителям стекла.
Сын его сам стал мыловаром, начав дело в Марселе сразу после эпидемии бубонной чумы, затем уже после Второй мировой войны родной дед Аннет, молодой и энергичный, перевел это дело на едва уцелевший под бомбами скотный двор, единственный оставшийся от баронского замка на Роне, и занялся туалетным мылом.
Жена его, Лучана, была итальянкой и после войны училась в знаменитой миланской школе, основанной Элизабет Арден. Устроиться туда было невозможно без сопроводительного письма какой-нибудь важной особы. К счастью, у их семьи была подруга – жена испанского посла, которая раздобыла такое письмо, обратившись к знакомому кардиналу. Девушек держали в роскоши, но и в необычайной строгости, водили в оперу и музеи, читали лекции по истории искусств. На занятия они допускались исключительно в черных строгих платьях. Серьги, нитка жемчуга и нежная губная помада также составляли обязательное условие школьного дресс-кода. Синьорине Лучане довелось испытать строгость этих правил на себе. Однажды она забыла нанести помаду и надеть сережки, и ее не допустили к занятиям. Изучалась там вся продукция торгового дома: от смывки для снятия лака до изысканных духов и кремов. Особое внимание уделялось рукам, и каждый день проводилась почти балетная муштра по манипуляциям с коробочками, тюбиками, флаконами, пробами, салфетками. Главное правило гласило: продукт должен быть преподнесен клиенту, а не просто положен перед ним.
В семье бытовала такая байка: однажды Лучана проходила практику в миланском парфюмерном магазине. К ней подошла дама преклонных лет в поисках средства от морщин. Девушка предложила ей крем, сказав, что и она им пользуется.
– Вам-то зачем в ваши двадцать?!
– В тридцать восемь! – отчеканила плутовка.
На следующий день за кремом выстроилась очередь.
Гениальная по торговой части мадам Аннет была влюблена в свое дело. В цехах своего маленького заводика она чувствовала себя алхимиком, почти волшебницей, колдуньей, использующей для своих темных дел чудесные травы и плоды. Возможно, эти чувства питал детский страх перед каустической содой, о которой ей рассказали, что она может растворить человека без следа. Быть властительницей Каустической соды! Такой опасной и необходимой для ее чудного мыла. И она, как эта сода, разъедала мозг мужу и сыну, всем, кто, как ей казалось, вставлял палки в колеса ее производства. Сын за глаза даже звал ее щелочью.
Продукция их фабрики была очень изящной. Эскизы делал один хороший художник, живущий в их городке. Сам он был человеком выпивающим и депрессивным, но, несмотря на это, а может, и благодаря этому, его упаковки были изысканны, элегантны и манящи. Они ласкали глаз травами, фруктами и цветами: лавандой и жасмином, ромашкой и розмарином, геранью и базиликом, кедром и лимоном, апельсином и розой, миндалем и ванилью.
Одевалась мадам Аннет в карамельные цвета и, проходя мимо зеркала, резюмировала:
– Ничего себе сегодня упаковочка.
Или:
– Эту обложку надо поменять, – и стаскивала с себя платье.
Аннет была любящей матерью несносного Макса. Она еще могла понять, как ее сынуля стал таким высоким и красивым, но никак не могла взять в толк, отчего он совсем не интересуется мыловарением, и решила отправить его, когда подрастет, в Англию изучать английский и новые технологии. А потом можно и в Америку. Надо расширяться не только в масштабах Европы. И втайне она грезила, как сдаст сыну все дела и займется мечтой всей своей жизни – производством духов, к созданию которых, как выяснилось, она не имела ни малейшего таланта и, понимая это, искала «хороший нос». Но это все равно была ее второстепенная забота. Первое, что требовалось сделать и не давало ей покоя, это поставить сына на свое место, но он проводил дни летом – в гамаке, зимой – у камина с журналами про любимые кораблики или клеил их из каких-то деревяшек и тряпочек, а вечерами пропадал с друзьями и подругами, учился плохо и только развлекался. Она не понимала, при чем тут кораблики, когда всерьез можно увлекаться только мылом! Днем у нее не хватало времени думать об этом, грустные мысли терзали ее по вечерам, когда она ухаживала за своей огромной террасой с великолепным садом. Немного расслабиться она позволяла себе лишь в субботу вечером – это означало выпить, причем Аннет предпочитала русскую водку и хорошенько поесть, вкусно и неторопливо. И в минуты отдыха ей казалось, что все непременно наладится.