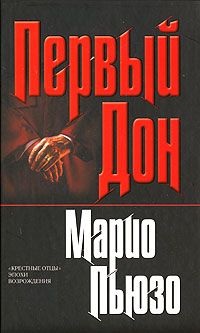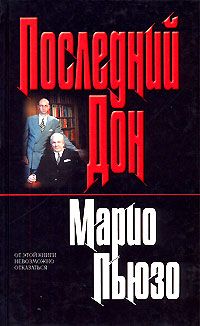Веки Лукреции шевельнулись, начали открываться, когда Чезаре провел рукой по ее животу, чтобы успокоить ее, привести в чувство. Их взгляды встретились.
— Тебе лучше? — спросил Чезаре.
— Это какой-то кошмарный сон. Хуан мертв? А отец?
Как перенес это отец?
— Не очень, — хмурясь, Чезаре положил руку на ее живот. — У тебя перемены, о которых мне ничего не известно?
— Да.
— Учитывая, что отец проталкивает твой развод, время не самое удачное. Никто не поверит, что этот свинья Джованни — импотент, и развода тебе могут не дать.
Лукреция села, в голосе брата слышались резкие нотки, он явно выказывал неудовольствие. Мало того, что Хуана убили, так еще и Чезаре разозлился на нее.
— Мое состояние никак не связано с Джованни, — холодно ответила она. — Я спала с ним лишь один раз, в ночь свадьбы.
Чезаре сверкнул глазами.
— Так какого негодяя я должен убить?
Лукреция подняла руку, коснулась щеки брата.
— Ребенок твой, сладенький. Так уж вышло.
Он долго молчал, задумчиво глядя на нее.
— Я должен избавиться от кардинальской шляпы.
У меня не будет внебрачных детей.
Лукреция прижала пальчик к его губам.
— Но твой ребенок никак не может быть моим.
— Мы должны что-то придумать, — ответил он. — Кто-нибудь знает?
— Ни единая душа. Я уехала из Рима, как только поняла, что беременна.
* * *
После смерти Хуана Папа затворился в своих покоях.
Несмотря на мольбы Дуарте, дона Мичелотто, Чезаре, всех, кто любил его, отказывался от еды, целыми днями ни с кем не разговаривал… даже с Джулией. Из-за закрытых дверей они слышали, как он молится и просит о прощении.
Но поначалу он тряс кулаком и клял Бога.
— Отец Небесный, какая польза от спасения тысяч душ, если потеря этой, единственной, приносит такую боль? — в ярости вопрошал Александр. — Наказывать меня за потерю добродетельности, лишая жизни сына, несправедливо. Человек слаб, а Бог должен быть милосердным!
У него словно помутился рассудок.
Кардиналы, которым он благоволил, по очереди стучались в его покои, просили дозволения войти, помочь ему в его страданиях. Вновь и вновь он гнал их прочь. Наконец из-за двери донесся крик: «Да, да. Господи, я знаю… твой сын тоже стал мучеником…» — и на два дня воцарилась тишина.
Когда Александр, бледный и исхудавший, открыл, наконец, двери, душа его, похоже, обрела покой.
— Я поклялся Мадонне реформировать церковь, — сообщил он тем, кто ждал его появления, — и начну немедленно. Созовите консисторию [10], чтобы я мог обратиться ко всем.
Папа объявил о своей любви к сыну и признался присутствующим, что отдал бы все семь тиар, если б этим смог вернуть ему жизнь. Но поскольку такое невозможно, он возьмется за реформирование церкви, потому что смерть Хуана открыла ему глаза и напомнила о собственных грехах.
Душевная боль слышалась в каждом слове Александра, он признавал и собственную греховность, и греховность семьи и клялся вернуться на путь истинный. Сказал всем кардиналам и послам, что своим поведением оскорблял небеса, и попросил незамедлительно образовать комиссию для выработки предложений по реформированию церкви.
На следующее утро Папа отправил письма христианским правителям, в которых сообщал о случившейся трагедии и осознании необходимости реформ. Никто не сомневался в искренности намерений Александра, по всему Риму звучали сочувственные речи, и даже его заклятые враги, кардинал делла Ровере и пророк Савонарола, прислали письма с соболезнованиями.
Казалось, что христианский мир стоит на пороге новой эры.
Александр все еще оплакивал Хуана, поэтому Дуарте пришел к Чезаре Борджа с предложением после отъезда из Неаполя, где тому предстояло помазывать короля на престол, заглянуть во Флоренцию, в которой во время французского нашествия изменилось слишком многое.
И теперь, чтобы укрепить отношения между законодательным собранием города, Синьорией и Папой, оценить возможность восстановления власти Медичи и опасность, исходящую от пророка Савонаролы, требовался надежный человек, способный отсеять правду от слухов, которые достигали Рима.
— Говорят, — инструктировал Дуарте Чезаре, — что влияние этого доминиканского монаха в последние месяцы значительно усилилось, что он настраивает народ Флоренции против Папы, требует проведения кардинальных реформ, — Папа уже отправил во Флоренцию интердикт [11], в котором указывалось, что монах не должен проповедовать, если он и дальше будет подрывать веру людей в Папу. Савонароле предписывалось прибыть в Рим на встречу с Папой, а флорентийским купцам Папа грозил санкциями, в случае если они и дальше будут слушать проповеди монаха. Однако ничто не могло остановить фанатичного пророка.
Наглость и самодовольство Пьеро Медичи вызвали возмущение как граждан Флоренции, так и придворных.
Пламенные речи Джироламо Савонаролы только усиливали всенародный гнев. Растущее богатство купцов, которые ненавидели Медичи и чувствовали, что их деньги дают им право голоса в делах Флоренции, также представляло угрозу власти Папы.
Чезаре улыбнулся.
— Можете ли вы гарантировать, друг мой, что меня не убьют в этом славном городе? Возможно, они захотят преподать Папе наглядный урок. Мне говорили, что в своих речах, обращенных к гражданам Флоренции, пророк заявлял, что я представляю собой не меньшее зло, чем мой отец.
— У тебя там есть как друзья, так и враги, — заметил Дуарте. — И даже союзники. Хотя бы этот блестящий оратор Макиавелли. Сейчас, когда папство ослабело, как никогда нужен острый глаз, способный отличить истинные опасности, грозящие семье Борджа, от ложных.
— Я понимаю вашу тревогу, Дуарте, — кивнул Чезаре. — И если смогу, посещу Флоренцию после того, как закончу в Неаполе все дела.
— Кардинальская шляпа защитит тебя, — заверил его Дуарте. — Даже от фанатика-пророка. Нам нужно точно знать, в чем он обвиняет в своих речах Папу, чтобы отреагировать должным образом.
Вот так, из опасения, что Медичи могут потерять власть, а вновь избранный состав Синьории может оказаться враждебным Папе, Чезаре согласился побывать во Флоренции, чтобы понять, как переломить ситуацию в пользу Рима.
— Я поеду туда, как только смогу, — пообещал он. — И сделаю все, как вы просите.
* * *
Никколо Макиавелли только что вернулся из Рима, где в качестве эмиссара Синьории участвовал в расследовании убийства Хуана Борджа.
И сейчас стоял в огромном зале палаццо делла Синьора, украшенном великолепными гобеленами и бесценными картинами Джотто, Боттичелли и многих других художников, подаренными Синьории Лоренцо Великолепным. Сидя в большом, красного бархата кресле, среди еще восьми членов Синьории, нервно ерзая, стареющий президент внимательно слушал доклад Макиавелли.
Всех членов совета страшили слова, которые им предстояло услышать. Кто знал, какие беды они несли и им, и Флоренции.
Хрупкого телосложения, Макиавелли выглядел моложе своих двадцати пяти лет. Завернувшись в длинный черный плащ, он вышагивал перед ними, ведя свой рассказ.
— В Риме все уверены, что Чезаре убил своего брата.
Я — нет. Папа, возможно, тоже верит, но в этом я не могу с ним согласиться. Разумеется, мотив у Чезаре был, и мы знаем о напряженности отношений между братьями. Говорят, в тот вечер они едва не устроили дуэль. Но я все равно говорю — нет.
Президент нетерпеливо махнул высохшей рукой.
— Мне совершенно без разницы, что думает Рим, молодой человек. Во Флоренции мы все решаем сами, без оглядки на других. Тебя послали, чтобы оценить ситуацию, а не собирать сплетни на римских улицах.
Макиавелли словно и не услышал критики президента.
Продолжил с лукавой улыбкой:
— Я не думаю, что Чезаре убил своего брата, ваше превосходительство. Мотивы были и у других. К примеру, у Орсини, которые все еще помнят о смерти Вирджиньо и нападении на их замки. Или у Джованни Сфорца, которого хотят развести с дочерью Папы, Лукрецией.
— Поторопись, молодой человек, — нетерпеливо бросил президент, — а не то я умру от старости до того, как ты закончишь доклад.
Макиавелли спокойно гнул свое:
— А есть еще герцог Урбино, Гвидо Фелтра, который попал в подземелье Орсини из-за некомпетентности главнокомандующего, а потом просидел там не один месяц, ибо Хуан Борджа из жадности не желал платить выкуп. Не стоит забывать и о капитане де Кордобе, которого лишили лавров победителя сражения при Остии. А главным подозреваемым я бы считал графа Миранделлу. Хуан соблазнил его четырнадцатилетнюю дочь, о чем тут же рассказал всем, кто хотел его слушать. Вы можете представить себе и понять стыд отца. И его дворец находится аккурат напротив того места, где Хуана Борджа бросили в Тибр.