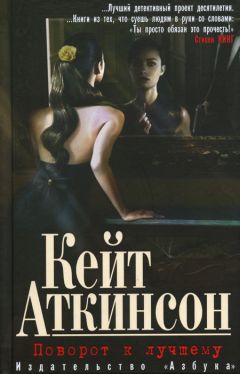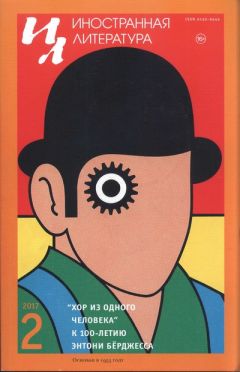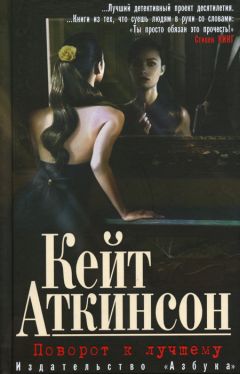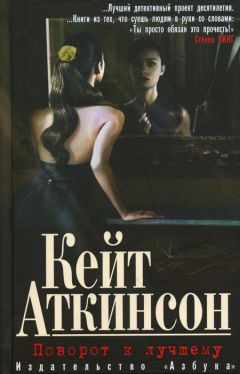Мартину удалось сбежать от бакалейщика, пока тот пререкался из-за шапки. Он портил Мартину всю «магию России» — утром висел у него на хвосте, пока они ходили по Эрмитажу, гундел про чрезмерную пышность интерьеров (тут он, впрочем, был прав) и гадал вслух, какими «мерзкими помоями» их будут кормить на ужин. Даже Рембрандт не заставил его заткнуться. «Нет, ну до чего жалкий старикан», — заявил он, созерцая автопортрет художника. Мартин знал, что это лишь короткая передышка, что стоит бакалейщику нацепить шапку, как он тут же выследит его между палатками и остаток дня будет жаловаться, что его обобрал тощий продавец ушанок, у которого был такой вид, словно он даст бакалейщику сто очков в забеге к дверям на тот свет.
Мартин собирался купить набор матрешек для матери, заранее зная, что куклы будут стоять, заброшенные, на полке с другими дешевыми безделушками, фарфоровыми статуэтками, куклами в национальных костюмах, вышитыми крестиком картинками — пусть даже со всего этого регулярно стиралась пыль. Ей не нравилось ничего из того, что он ей покупал, но, если он приезжал без подарка, она жаловалась, что он совсем о ней не думает (железная логика). Если бы Мартину подарили камень, завернутый в бумагу, даже тогда он был бы благодарен, потому что кто-то побеспокоился найти камень и обернуть в бумагу — ради него.
Он решил, что купит ей что-нибудь попроще, только простого она и заслуживала. Например, матрешку в крестьянском стиле, в фартуке, с платком, — он как раз держал такую в руках, ощущая гладкость и обтекаемую форму символа плодородия, и думал о матери, когда девушка в палатке сказала:
— Очень красивая.
— Да, — ответил Мартин, хотя вовсе не находил матрешку красивой.
Зато девушка была такая хорошенькая, что он старался на нее не смотреть. На ней были шерстяные перчатки без пальцев, а на голове — шарф, из-под которого выбивались светлые волосы. Она вышла из-за прилавка и начала выбирать разных кукол, открывать их, разбивая, как яйца, и выставлять тех, что гнездились внутри.
— Вот тоже красивая и вот еще. Это особая кукла, очень хороший художник. Сценки из Пушкина, Пушкин — известный русский писатель. Вы знаете?
Она предлагала свой товар так ненавязчиво, что сопротивляться показалось ему невежливым, и в итоге, поразмышляв, пожалуй, дольше, чем того требовала задача и матрешки сами по себе, Мартин купил дорогой набор из пятнадцати кукол. Они были вполне симпатичные, на пузатых животах красовались «зимние сценки» из Пушкина. Настоящее произведение искусства, для матери это слишком, он решил оставить их себе.
— Очень красивые, — сказал он девушке.
— Долларов нет? — грустно поинтересовалась она, когда он протянул ей ворох рублевых банкнот.
На ней были полусапожки на высоком каблуке и старомодное, ноское на вид пальто. Все девушки в Санкт-Петербурге ловко пробирались по замерзшей слякоти на высоких каблуках, тогда как Мартин то и дело поскальзывался, стараясь удержать равновесие, как персонаж фарсовой комедии.
— Хотите кофе? — неожиданно спросила продавщица, повергнув его в замешательство.
Он подумал, что она сейчас вытащит термос, но девушка прокричала что-то резкое мужчине, торговавшему в соседней палатке знаками различия Красной армии, и он крикнул что-то такое же резкое в ответ, и она пошла вперед, размахивая сумкой и маня Мартина за собой, как ребенка.
Они не стали пить кофе. Вместо этого они ели борщ, а потом пили горячий шоколад, густой и сладкий, из высоких кружек, заедая пирожными с кремом. Она заказала сама и не позволила ему расплатиться, махнув рукой в сторону тонкого полиэтиленового пакета, в котором, завернутые в газету, лежали его матрешки, уютно спрятавшись друг в друга, и он подумал, что, наверное, это вознаграждение за то, что он раскошелился. Может быть, так делается бизнес в России — если заплатишь кому-нибудь сумму, на которую здесь можно спокойно прожить неделю, тебя отведут в теплое, душное кафе и обкурят с головы до ног сигаретным дымом. Вот на Крите («Откройте для себя древние чудеса..») ему после каждой покупки непременно всучивали что-нибудь бесплатно, можно подумать, продавцы хотели смягчить острые углы капитализма. Дары обычно являли собой вязаные салфеточки, и к возвращению у Мартина в чемодане скопилась их целая стопка.
— Ирина, — представилась она, протягивая руку.
Она размотала шарф, и волосы рассыпались по спине.
— Мартин, — ответил Мартин.
— Марти, — улыбнулась она.
Он не стал ее поправлять. Никто еще не называл его «Марти». «Марти» сулил оказаться человеком поинтереснее, нежели он сам, и ему это понравилось.
Он попытался объяснить Ирине, что он писатель, но не знал, поняла она его или нет.
— Достоевский, — сказал он. — Пушкин
— Идыот! — воскликнула она, и ее кукольное личико вдруг оживилось. — Здесь — идыот.
Только потом он понял, что кафе, где они сидели, называлось «Идиот».
Ему хотелось произвести на нее впечатление своим литературным успехом. Он никогда ни с кем не обсуждал писательские гонорары. Мелани, его агент, считала, что он так до конца и не раскрутился и может добиться большего; немногие друзья отнюдь не преуспевали, и он не хотел, чтобы они подумали, будто он хвастается, его матери было все равно, а брат завидовал, поэтому Мартин предпочитал держать свои маленькие триумфы при себе. Ему было бы приятно, если б Ирина узнала, что У себя на родине он имел некий вес («Продажи растут с каждой книгой»), но она только улыбалась и слизывала с пальцев крошки пирожного.
— Конечно, — сказала она.
Покончив с едой, она быстро встала и, не глядя на часы, заявила:
— Я иду.
Натягивая пальто, она допила кофе — Мартина восхитила жадность этого жеста.
— Вечером? — спросила она, словно они уже обо всем договорились. — «Икорный бар» в Гранд-отеле, в семь. О’кей, Марти?
— Да, о’кей, — поспешно ответил Мартин, потому что она уже бросилась к двери и, не оглядываясь, подняла руку в прощальном жесте.
Выйдя из кафе, он попал в настоящий снегопад. Это было так романтично: снег, блондинка с шарфом на голове, прямо как Джули Кристи в «Докторе Живаго».
Он смотрел на свое отражение в пожелтевшем зеркале в ванной «Четырех кланов». Может быть, его так тошнит от голода, он не помнил, когда в последний раз нормально ел. Его пробрала дрожь, и он рухнул на колени и скорчился над унитазом, содрогаясь в приступах рвоты. Он спустил воду и уставился на закрутившуюся воронкой рвотную массу, смешавшуюся с мерзкой синей жидкостью, должно быть из сливного бачка, — и тут его пронзила мысль: «Меня ограбили? Конечно!»
Он бросился обратно в комнату и проверил карман пиджака, где обычно носил бумажник. Пусто. При мысли о нудных телефонных звонках в банк и в компании, выпустившие кредитки, он тяжело вздохнул. Еще в бумажнике были водительские права и сто фунтов наличными, и — о ужас! — он вспомнил про маленькую лиловую карту памяти, кусок пластика со «Смертью на Черном острове». Ее тоже больше нет. Холодная волна паники тут же сменилась жаркой волной облегчения — есть еще копия романа на диске в «офисе». Мартин спас Полу Брэдли жизнь, а Пол Брэдли за это его ограбил. Мартина так задело это предательство, что на глаза навернулись слезы.
В клетчато-беконовой духоте фойе было пусто, как на «Марии Селесте».[65] Он нажал на медный звонок, и спустя довольно долгое время появился юнец в поварской форме. С фантастической медлительностью он провел пальцем по регистрационным записям и подтвердил, что Пол Брэдли выселился.
— Все оплачено, — сказал парень, вытирая нос тыльной стороной кисти. И добавил: — Можете идти, — словно выпускал Мартина из тюрьмы.
Мартин не стал говорить, что его ограбили. Едва ли парень проявил бы интерес. Да и с чего бы? Почему-то Мартин не мог избавиться от ощущения, что получил по заслугам.
Глория проснулась рано и спустилась вниз, ступая очень тихо, словно в доме можно было кого-то разбудить, хотя, к ее великой радости, она была совершенно одна. Когда Грэм был дома, все сотрясалось и грохотало, даже если он спал. Без него же день разворачивался по своим тихим законам, обступая мягкими красками и косыми лучами света, которых Глория никогда прежде не замечала.
Она ощущала ягнячий ворс овсянистого берберского ковра под босыми ногами и скользкую гладкость перил из красной орегонской сосны под ладонью. Ей подумалось о сотне с половиной лет, что ушли на полировку дерева до атласного блеска; она тоже приложила к этому Руку, натирая перила, — и не «Мистером Блеском», а кирпичиком пчелиного воска. Глория приучила себя цеиить маленькие радости, многие из которых были связаны именно с домом — домом, что будет стоять еще много лет после того, как сама Глория обратится в прах.