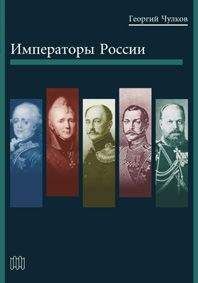«Сударыня!
К счастью, имею возможность сообщить Вам некоторые сведения, свидетельствующие против завещания, составленного Вашим дядей на имя известной нам дамы. Прошу быть дома не позже половины шестого вечера.
Частный поверенный Зиновий Журавский».
— В котором часу просят быть?
— Не позже половины шестого.
— Мы всё правильно рассчитали.
— Под предлогом...
— Что хотят сообщить нечто важное в связи с завещанием, — уверенно произносит Казанцев. — Мадам, ваша жиличка у себя в 10-м номере. Пропускать к ней любых или любого. Давайте ключ.
Мы поднимаемся на второй этаж.
— Опыт, Сергей, важнейший спутник сыскного дела, — несколько наставительно говорит он. — И Пинкертон, и дядя твой враз также бы догадались, какой ход тут они применят. А ты тонкостями высшей математики овладел, но растерялся. Я это не в укор говорю, а к тому, что будь, пожалуйста, крайне осторожен.
Получалось: я сегодня уже дважды в лужу сел, причем риск жизни мог оказаться таким реальным, что легкая дрожь берет вспоминать.
Казанцев открыл комнату, мы вошли внутрь, и огорчение мое поубавилось от услышанной похвалы:
— А насчет их двойного удара, молодец, раньше нас сообразил. Меня тоже эта мысль сверлить начала, но влетаешь ты — всё уже сделано. Только не радуйся никогда успехам — расслабляет, друг мой. Который час?
— Пять минут шестого.
— Заявятся, посмотришь, минут через десять-пятнадцать. Обязательно раньше, когда человек еще только готовится к встрече, не до конца собран мыслями. Садись на диван, револьвер вынь, взведи и положи рядом. Прикрыть можешь подушечкой.
Дальше он показывает, что мы умолкаем.
Проходит минут пять, я показываю время на пальцах, генерал мне кивает.
Проходит еще семь минут, я только хочу показать, но что-то вроде шороха за дверью, генерал дает знак тишины... шорох больше не слышен.
Он вдруг, открывает шумно ящик стола, держит так... и с шумом захлопывает.
Но тихо за дверью.
Ан! Моя рука сама дернулась к краю подушечки — легкий стук в дверь.
Генерал показывает мне — сидеть, сам поднимается и легким, немужским шагом скользит к двери.
Поворачивает, не торопливо, в замке ключ... моя рука под подушкой уже держит небольшую рукоять кольта... он открывает дверь на себя, одновременно ей слегка прикрываясь, тьфу! на пороге служанка в переднике, робко ступает внутрь.
— Хозяйка велела занавески для стирки снять, сейчас новые принесу.
Она видит меня, ищет еще глазами и натыкается на генерала.
— Вера! Давно ли?..
Та опешила, не успевает ответить, Казанцев хватает ее за кисть и грубо выворачивает руку.
— Сережа, хозяйку сюда и второго кого-нибудь в свидетели.
Я выскакиваю в коридор, сзади меня вскрикивания женщины от боли, из-за угла от лестницы осторожно выглядывает хозяйка.
— И второго человека, быстро!
Видимо, крепкий малый «прикрывал» ее сзади, оба спешат ко мне, и вот, мы уже в комнате.
— Да сломаете, ой, руку!
Казанцев неожиданно отпускает ее.
Женщина разгибается, хватается другой рукой за болящий от выверта локоть, в лице боль и что-то вроде досады.
— Перед вами, господа, рецидивистка Вера Долгова. Дважды подвергалась заключению за хранение и продажу краденого. А теперь, Вера, доставай пёрышко. Сейчас, господа, она вынет острую металлическую заточку.
— Доставай, я тебе сказал!
Теперь на ее лице выражение «игра проиграна», с жалким оттенком, как у сдающихся в плен.
Она отпускает больной левый локоть, тянет правую руку к ноге под юбку, чуть вздымает ее... и на пол летит тонкий, в два пальца длинной, металлический стержень.
— Всё видели, всё поняли? — обращается Казанцев к свидетелям.
— Да, — говорит хозяйка, а парень решительно кивает; во взгляде его сзади на женщину — откровенная злоба.
— Теперь прошу нас оставить, позже подпишите протокол.
Он поднимает заточку, небрежно бросает ее на стол и сам садится там у стола.
Женщина опять взялась за локоть, и смотрит мимо него в окно-никуда.
— Ну что, Вера, первый раз по малолетству тебе дали полгода, второй раз два, но покушение на убийство — не торговля краденым, тут верные десять. И не в остроге — на каторге, и непременно в первые год-два с кандалами.
Я наблюдаю ее в профиль — рот полуоткрыт, дыхание прерывистое и тяжелое.
— Доигралась. Сергей, скажите хозяйке, пусть отправит за приставом.
— Ваше высокородие...
— Что голубушка?
— Они... они убивать человека скоро пойдут. Плющиха, меблированные комнаты купца Васильева. Ваше высокородие, я при свидетеле говорю, — она чуть показывает в мою сторону.
— Зачтется тебе в два-три года. Только я тебе поинтересней могу предложить.
Ее дыхание учащается — всё равно семь лет минимум каторги для женщины — загубленная жизнь, почти наверняка, инвалидность.
— Предлагайте, ваше высокородие.
— Ты мне всё начистую — где у Огурца спрятано от ограблений и краж, от убийств купца Захаркина и мещанина Смирнова. Это ведь вашей банды рук дело.
Женщина опускает голову.
— Ты мне всё без укрытия, а я тебе... вот дверь эту открою, ни ареста, ни протокола. — Он сразу же поспешил: — А про намеренья Огурца мы знаем, и ты его больше никогда не увидишь. Как и дружков ближайших. Так что на перо, Вера, тебя никто не поставит. Нормальной жизнию пожить-то не хочется?
Она не сразу отвечает, сначала поднимает голову... водит ей пару раз из стороны в сторону, сглатывает... спрашивает хриплым осевшим голосом:
— Что, и правда, отпустите?
— Еще и на работу устрою. В трактир «Амстердам». Филеры мои туда заглядывают, но лишние глаза в нашем деле всегда нелишние. Не бойся, прикрыта будешь, заберем оттуда если что.
Трактир «Амстердам» — полуофициальный вертеп, с карточной игрой, порой на «большие», женскими услугами. Не притон в прямом смысле, купцы, особенно заезжие, посещают, комфорт там определенный имеется, в их, разумеется, вкусе, но газеты в несколько месяцев раз пишут про очередной там, или близко от трактира найденный труп. А впрочем, зайти, этак днем, пообедать, там можно вполне безобидно, и кухня у них хорошая.
— Ну, Вера, собери, давай, мозги в кучку. И как я сказал, так и будет.
Та сдерживает слезы, но совсем это сделать не удается.
Утирается подолом передника.
— Вы... записывайте лучше, там несколько мест.
Казанцев проворно достает карандаш и блокнот.
Она начинает рассказывать, продолжая плакать и утираться.
Выходит сложно, все схроны с маскировкой — за притолокой что-то еще, там надо разгрести стружку... и в этом роде.
Лицо, я замечаю, от слез слегка припухло уже, дыхание всё неровное, воздуха ей не хватает.
Казанцев аккуратно записывает, иногда останавливает ее и переспрашивает.
Женщина похоже чуть успокоилась, перекрестилась три раза и поклонилась Казанцеву:
— Всё что знала, как на духу!
— Верю, — он вырвал из блокнота листок и начал на нем писать. — Верю, и рассказала ты не мало. Вот... — он сложил листок вчетверо, как записку, — возьми. Просто передашь хозяину «Амстердама», можешь и через слугу. Хозяин этот мне кой-чем обязан, устроит тебя, не обидит. Работай спокойно и обживайся. С фартуком только по улице не иди, сними его здесь.
Она берет записку, перехватывает руку Казанцева и целует, на глазах снова появляются слезы.
— Ну ладно-ладно, иди с Богом.
Она поворачивается ко мне, тоже крестится и низко кланяется.
Когда за ней закрывается дверь, генерал спрашивает у меня время.
— Ого! без двух минут шесть.
— Через десять почти минут штурм начнется.
— Дмитрий Петрович, а почему вы уверены, что Огурца и ближних сподручных его она никогда не увидит — им пожизненно каторгу дадут?
— Их не будут брать живыми, Сережа. Не вздрагивайте. Это не моя самодеятельность, есть такое указание «сверху». — Он задумывается, вид обретает невеселый совсем. — Знаете, Сергей, померещилось мне вот сейчас: стоит перед нами не Верка, стоит наша Россия... готовая убивать, и так радостно, счастливо ей становится от простого вдруг света в окошке — от нормальной, вдруг, жизни простой. Почему у нас так мало этого света?
Он спрашивает уже глядя не на меня, а в пол перед собой, и понятно — вопрос давний, не ко мне адресованный, и из тех, на которые задающий сам не ждет уже получить ответа.
Грустно и мне от заплаканного лица женщины, не верящей до конца в свое счастье, от этого ужасного сочетания нормального с ненормальным.
— Что ж, едем, Сергей. Урожай должны сегодня собрать богатый.
Урожай действительно оказался богатым.
Хотя, как доложил старший из группы филеров, Огурца и двух его ближайших товарищей живыми взять не удалось — оказали при задержании вооруженное сопротивление. Остальные шесть человек начали при допросах валить друг на друга; обвинялись они по целому ряду преступлений именно благодаря найденным от разбоев и убийств вещах в тайниках, указанных Верой Долговой; и чем больше они валили друг на друга, тем хуже становилось для каждого. Через три часа допросов Казанцев решил, что «на сегодня довольно», и пора заняться теперь «почеркистом». С ним поступили оригинально: пригласили первоначально как свидетеля — не состоявшегося потерпевшего; усадили в приемной, давали чаю с баранками, но держали все три часа пока шли допросы бандитов.