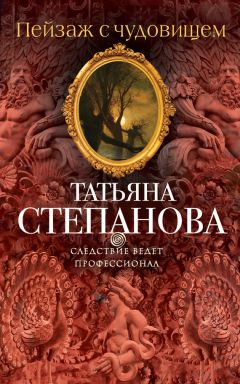– И что, никто из домашних не знал, не догадывался?
– Вера, горничная, знает. Она так давно со мной, от нее ничего не скроешь.
– Она могла проговориться своей племяннице Валентине.
– Нет, она не из болтливых.
– Мог еще кто-то знать, подумайте.
– Нет, это исключено.
– У вашего брата был роман с Юлией Смолой. Он мог ей сказать.
– Он ей не говорил.
– У вас самого был роман с Евдокией Жавелевой.
– Она об этом ничего не знает. Может догадываться, что я не способен иметь детей… Однако она так глупа, что, наверное, думает, что врачи в Италии что-то там сделали и ЭКО получилось. О Гарике она не знает.
– Кто биологическая мать Аякса?
– Инкогнито из банка доноров яйцеклеток, предложенных клиникой. Там выбираешь по фото, а они проверяют биопараметры.
– А суррогатная мать?
– Одна женщина из Боснии. Они нашли ее сами, я заплатил. Там все чисто, никаких претензий.
– Я выясняю все это, потому что сначала я думал, что попытка убийства ребенка и устранение няни – это акт мести и ненависти, направленный лично против вас. А теперь оказывается, что возненавидеть могли и вашего брата. И отомстить ему.
– Об этом никто не знал, – повторил Феликс. – Это все, что вы хотели о нас знать?
Он впервые поднял на Гущина свои глаза – светлые, в красных прожилках от недосыпа, и как-то жалко улыбнулся. А может, оскалился.
И Гущину, как когда-то Мещерскому, показалось, что этот грузный мужик – эстрадник с крашеными волосами и двухдневной щетиной похож на волка. На старого волка, попавшего в капкан и пытающегося, воя от боли, отгрызть свою защемленную лапу.
– У меня еще к вам вопросы. И снова о вашей семье.
– Вы нас с Гариком, что ли, подозреваете? – тихо спросил Феликс. – Сначала его, потому что небось вам наплели тут, пока меня не было, что Аякс для него был препятствием к наследству, если я в ящик сыграю от инфаркта. А теперь вот меня, когда все перевернулось и вы прикидываете, мог ли я не поделить нашего мальчика с братом.
– Вашего ребенка хотели убить, на вашем месте я бы подозревал всех, – неловко парировал едкий вопрос Гущин. – А чего вы хотите? Да, мы всех подозреваем. Такое дело.
– Ладно, спрашивайте. Я отвечу, если смогу.
– У вас служит Валентина, горничная, племянница вашей верной Веры.
– Ну да, а что?
– Она дочь Софьи Волковой.
– А, эта старая история, вы и ее раскопали.
– Это история с убийством.
– Это трагедия, – сказал Феликс, откидываясь на спинку кресла.
– Софья ведь присматривала в качестве сиделки за вашим дядей, адвокатом Фаворовым, в Мытищах.
– Ну да, царствие ему небесное.
– Ваш дядя скончался и оставил вам в наследство дорогие картины.
– Это старая история.
– Сиделку Волкову убили в подъезде через две недели после похорон вашего дяди. Что вам об этом известно?
– Ее убил какой-то подонок, ограбил. Я не сразу узнал. У нее дочка осталась, школьница. Вера Бобылева ее взяла на воспитание. Я им помог и потом помогал деньгами. Немного, но все же. А затем взял Веру в домработницы. Они хорошие люди, честные. За это время мы с Верой сроднились. Она как член моей семьи. Позже, когда ее племянница потеряла работу, Вера попросила меня взять ее сюда, в дом, помощницей. Я с радостью согласился. Чем чужих нанимать, лучше так…
– Нанять дочь убитой сиделки вашего дяди, – закончил Гущин.
– Я не пойму к чему вы клоните, полковник?
– А вы подумайте, Феликс.
– Я не понимаю.
– У вашей младшей горничной могли возникнуть некие идеи… версии убийства ее матери.
– Какие еще идеи?
– А вы подумайте, – повторил Гущин.
– Я не знаю, что вы имеете в виду.
– Дети порой расплачиваются за грехи взрослых. За давние грехи.
Феликс не ответил. Потом пожал плечами.
– Вы кого-нибудь сами подозреваете? – спросил его Гущин.
– Нет. Я думал там, в больнице… Не знаю.
Гущин долго ждал, что он скажет что-нибудь еще. Может, придумает с ходу какую-то версию насчет членов клуба «Тайный Запой» – мол, вот они, чужие, ищите среди них. Но Феликс молчал.
– Я хочу видеть свидетельство о рождении Аякса и документы насчет ЭКО, – сказал Гущин. – Не знаю, что там у вас – договор или соглашение. Но мне нужно видеть все эти документы.
– Хорошо, я их найду и покажу вам, – безучастно ответил Феликс.
– Сереж, ты не замечаешь ничего странного?
Катя спросила это, чтобы прервать молчание, в которое погрузился Мещерский, выслушав новость о результатах ДНК и установлении биологического отцовства. Она, как и предполагала, нашла его в библиотеке. Сергей читал предпоследний из дневников путешественника Вяземского, но, увидев Катю, сразу отложил его.
Узнав новости, он мысленно вернулся в прошлую ночь, вспомнил, как бухнулся в воду, увидев самоубийцу, как плыл, загребая руками, как нырял и нырял, стараясь найти Гарика в черной непроглядной воде.
Теперь можно сложить два и два: когда у малыша ночью была остановка сердца, Феликс прислал брату то sms. Отец – отцу. И Гарик сел в лодку и оттолкнулся от берега. Хотел уплыть от всего.
– Между Феликсом и его братом? – спросил он. – Нет. За те дни, что я здесь находился, они при мне практически не контактировали, не разговаривали.
– Я не о них, – сказала Катя. – Я спрашиваю о другом.
– О чем?
– О картинах Юлиуса фон Клевера. Ты не замечаешь ничего странного?
– Странного в чем?
Катя закусила губу. Она пыталась четко сформулировать вопрос, но ей это никак не удавалось.
– Чувство потерянности… нет, растерянности, – она решила, что с вопросом ничего не получится, а лучше вот так – на пальцах. – Когда я смотрю на них. И даже больше – отсутствие…
– Отсутствие чего? – Мещерский уставился на нее с недоумением.
По его лицу она поняла – нет, не объяснить ему. Он этого не ощущает, не чувствует. Не станешь же распространяться – мол, глюки, видения. И никакие это вовсе не видения… А словно бы эхо… Эхо эха… Чего?
Отсутствие присутствия…
Но она и эту фразу не произнесла. Сказала лишь:
– Отсутствие самоконтроля на какой-то миг. Головокружение, слабость.
– Да ты прозрачная вся стала, – заметил Мещерский. – С этими нашими делами в деревне Топь. У тебя на лице – одни глаза. Не ешь ничего, в Мытищи моталась, не спишь.
– Сереж, я в норме. Просто когда я смотрю на этот «Пейзаж с чудовищем», я как-то теряюсь.
– Жуткие картины, – Мещерский поежился. – Тебя беспокоит то, что их тема – детоубийство – совпадает с реалиями происходящего здесь.
– Да, но не только это, – Катя снова строила фразы очень тщательно. – Я вот подумала: этот художник Юлиус фон Клевер, ты ведь рассказывал мне, что он уничтожил четвертую картину, где эта тварь терзает ребенка, и хотел уничтожить остальные. Но ему помешали, а четвертую картину Феликс потом обнаружил под слоем грунта и велел восстановить. Я вот все думаю: почему Юлиус фон Клевер хотел это сделать? Почему уничтожил свое произведение?
– Я слышал только, что он сделал это в припадке то ли горячки, то ли истерии. Мало ли, Катя. Это ведь художники. Ван Гог в припадке ухо себе отрезал. Художники – люди эмоциональные.
– Пейзаж – это ведь картины с натуры. Художник пишет то, что видит – ландшафт, дом, виллу.
– Вряд ли это подходит к фон Клеверу. Он написал эти картины спустя тридцать лет после событий на вилле Геката. И, как я слышал, писал он их в Вене, а не в Риме. Так что этот пейзаж скорее не картина с натуры, а иллюстрация к происшедшему. Как его иллюстрация «Лесной царь» к балладе Гете.
– Они ведь немцы были, да? – неожиданно спросила Катя.
– Кто?
– Эта пара – муж и жена Кхевенхюллер?
– Австрийцы. Я, кстати, смотрел в Интернете. Замок Ландскрон существует, и семья Кхевенхюллер действительно им когда-то владела. Но больше сведений никаких нет.
– На четвертой картине, той, что фон Клевер уничтожил, это существо… это ведь не мертвец, вставший из могилы, и не демон, и не зверь… Если на первой картине, там, где оно лишь наблюдает за виллой, у него звериные черты, то здесь… Сереж, ты видел глаза этой твари?
– Это образ, опять же символический, как и Лесной царь, образ Чудовища, – пояснил Мещерский. – Я думаю, что эти полотна – иллюстрация к подсознанию самого фон Клевера, к его восприятию истории об убийстве и детоубийстве на вилле Геката. Эти люди – муж и жена Кхевенхюллер – из корысти убили своего воспитанника, фактически приемного сына. И потом, согласно материалам суда, жена во время спиритического сеанса зверски убила и своего родного младенца. И несла какой-то бред о том, что это ее кузен-воспитанник, мертвый и хищный, разорвал ребенка на куски. Разве эти люди не чудовища? Для фон Клевера эти картины – как матрица его подсознания, на которое спроецировалась вся эта кровавая трагедия.
– Матрица подсознания? – спросила Катя. – А, ну да… наверное, ты прав. Что-то здесь душно, – сказала она. – Сереж, пойдем на воздух, к реке.