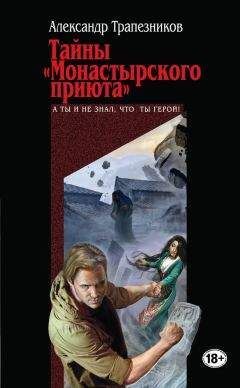Смена прически, пластически измененная форма носа. На фотографии – счастливое, одухотворенное лицо; сейчас – опыт и прожитые годы. Иной взгляд. Но глаза… Глаза трудно позаимствовать напрокат, взять в долг или купить у того же хирурга. Они почти всегда остаются прежними.
Женщину делает красивой мужчина, ее спутник. Все зависит от его отношения к ней. В благорастворении воздуха и окружающей ее любви она может расцвести и стать прекрасней самых дорогих, но одиноких красавиц, чье быстрое подурнение близко участи несчастливых женщин. Сивере почти догадался, почти узнал на снимке эту женщину, когда его размышления прервал бесцеремонный толчок в плечо.
– Что это мы так рассматриваем? – спросила Оленька Дембович, обнимая его за шею и целуя в ухо: – Что за красавица, твоя жена?
– Была бы у меня такая жена, я бы с тобой не связывался, – проворчал Александр Юрьевич, пряча медальон под рубашку.
– Ладно, дело хозяйское, лучше скажи: удалось тебе выполнить мое поручение? Насчет Анны Горенштейн.
– Я что, твой агент? Джеймс Бонд? По-моему, ты – нимфоманка.
– Слушай, Бонд, тут все крутится вокруг одной пропавшей вещицы, которая предположительно хранилась в футляре. Я с тобой откровенна, поскольку ты – лицо незаинтересованное. Ты втянут в эту историю поневоле. На лишних сыпятся все шишки, но ты – как громоотвод.
Оленька села напротив него и, судя по всему, говорила серьезно. Она выглядела сосредоточенно и уверенно, как знаменитая Никита.
– Отнесись к моим словам внимательно. У тебя нет выбора. Или ты со мной, или – с преступниками. Большинство людей, которые здесь погибли, убиты из-за той вещицы в футляре. Некоторые – случайно. Ты не можешь оставаться на нейтральной полосе.
– Почему бы тебе не обратиться к комиссару Куруладзе, если все так скверно? – произнес Сивере. – Он представляет здесь власть, ему и карты в руки.
– Откуда мне знать, что он не с ними и не играет той же крапленой колодой? Кроме того, он такой же дуб, из которого сделан его обеденный стол. Мне надо знать, что здесь делает Анна Горенштейн. Что думает, с кем еще связана?
– Одно могу сказать: ты идешь по ложному следу, – ответил Сивере. – И кого ты вообще представляешь, Мата Хари?
Оленька посмотрела на него, молча полезла в карман и вытащила какой-то значок необычной формы, умещающийся в ладони.
– Интерпол, – коротко ответила она.
Интересному разговору помешали старые карточные шулера: усевшись в гостиничном холле в ряд, они разом повернули головы в сторону заговорщиков, словно три грифа. Сиверсу даже померещился слабый клекот.
– После продолжим, – шепнула Оленька. – Сейчас мне надо спешить по одному делу.
Она пружинисто поднялась и ускользнула, оставив Александра Юрьевича с еще менее ясной головой, чем та была прежде. «Если Дембовичи из Интерпола, то кого они выслеживали? – подумал он. – Торговцев наркотиками, террористов или на мушке у них антикварные ценности?» Впрочем, Оленька могла и обмануть Сиверса, сейчас он был придирчив во всем и ко всем, готовый любому заявить свое станиславское: «Не верю!» Даже валютной путане в роли валютной путаны.
– Сегодня! – произнес вдруг Абарбанель, в упор глядя на Александра Юрьевича, который уже научился различать стариков. Справа от Абарбанеля сидел Алоиз, слева – Абдаллах.
– Что «сегодня»? – спросил Сивере.
– Вам сообщат, – сказал центровой. Другие по бокам кивками подтвердили.
– Форма одежды? – поинтересовался Александр Юрьевич. – Носки шерстяные? Или опять попаду «впросак»?
– Разве мы с вами разговариваем? – произнес Абарбанель.
– Странно, – промолвил Алоиз. – Я думал, здесь никого нет.
– Ты много думаешь в последнее время, мой друг, – заговорил третий, Абдаллах. – Я сильно тревожусь, не пошло бы это тебе во вред.
– Так ведь смотря как думать, – заметил Абарбанель. – Ежели впопыхах, да на голодный желудок, хотя и после семги, то не рекомендуется… А что-то у нас давно рыбу не подавали?
– Рыба очень утопленников жалует, – мечтательно сказал Алоиз. – Принесут, значит, такого подлеца в сетях, а двух-трех раков обязательно схватишь.
– Гляди, как бы они тебя не схватили! – предупредил Абдаллах.
– Что мы все о грустном? Сегодня же праздник. Бал.
«Голову они мне морочат, что ли?» – с раздражением подумал Александр Юрьевич. Но старики не обращали на него никакого внимания. «Это который же из них головы клещами откусывал? – вновь подумал Сивере, вспомнив слова Прозорова. – Алоиз или Барби? Нет, скорее всего, мусульманин. Ведь и кровь пил, а не скажешь… Или и тут врут?»
– Янек, Янек! – позвали вдруг с другой стороны холла, из раскрытой в коридор двери. Там стояли на пороге две тетушки и сладко улыбались ему. Безобидные с виду лисички.
Александр Юрьевич заскрипел зубами и, выругавшись, сказал:
– Да что же это творится?
Резко поднявшись, Сивере побрел вниз, в бильярдную, где его остановили идущие наверх Локусовы. Алистер был одет в какой-то допотопный сюртук, расшитый маленькими звездочками, его супруга – в черную кружевную накидку, покрытую как бы рыбьей чешуей. Если бы Александр Юрьевич был снайпером и ему бы предложили на выбор ликвидировать в толпе двух любых человек, он бы, несомненно, остановил прицел именно на этой паре, исключительно из-за их дикого наряда звездочетов. Чтобы избавить мир хотя бы от двух сумасшедших.
– Остерегитесь! – предупредил его Алистер, подняв вверх желтую ладонь. – Вы ведете себя как Иосиф Пфефферкорн, выступающий против Таинств Митры. Огненный смерч не за горами. Вчера, когда вы все ушли, нам открылась в опрокинутом тигле ваша Смерть.
– Она сидела на каменной рыбе, и отрицать это бессмысленно, – подхватила Тамара. – Вы сами видели. Отныне она будет следовать по пятам.
– Пока не поздно, оставьте в прошлом мертвецов своей жизни, примите свет люциферианского огня и девяносто пять тезисов Виттенбергского замка. Пойдемте, я расскажу вам о каждом из них и истолкую суть.
Сивере отодвинул упиравшуюся в грудь ладонь старика. С чувством и наслаждением произнес:
– Пшел вон, братская чувырла!
И, словно освободившись от пут, легко просочился в бильярдную.
В прямом смысле оседлав бильярдный стол, Прозоров с Багрянородским лениво погоняли киями шары, словно ехали в бричке под стук лошадиных копыт. Взбудораженного Сиверса встретили со сдержанной иронией; о недавней дуэли – ни слова, будто ее и не было.
– Вот, придумали новый вариант «американки», – сказал Прозоров. – Играть, не касаясь ногами пола, сидя на бильярде. Не очень удобно, но тренирует изворотливость ума.
– И ваще, это тебе не по карманам шарить, – добавил Багрянородский. Изогнувшись кренделем и рискуя сорваться со стола, он, тем не менее, умудрился ткнуть кием в шар и вкатить его в лузу.
– Да, брат, тут тебе не Карфаген какой-нибудь, тут посложнее будет! – произнес почему-то Прозоров, повторив трюк золотозубого с еще большим изощрением и эффектом. Затем он соскочил со стола, отшвырнув кий в угол. – Надоело! Скучно все время чего-то ждать, а чего – неизвестно. Вы заметили, что большую часть нашей жизни мы проводим в ожидании? В конце концов, вся жизнь в итоге оказывается ожиданием смерти.
– Глубоко роет, – кивнул Багрянородский. – Так не жди! Поди да удавись, уступи другим место в очереди.
– Ладно, хватит вам дураков-то из себя казать, – вмешался раздосадованный Александр Юрьевич. – Не в театре.
– Почему же нет? – обиделся Прозоров. – А Гамлет тебя уже не устраивает, с его «весь мир – театр»? Ну, хорошо, пусть не театр, пусть сумасшедший дом, легче от этого?
– Вот когда я лежал в одной клинике, – заметил Багрянородский, плавно перетекая от бильярдного стола к креслу, – у нас там тоже один все ходил и бубнил: на волю, на волю! А когда у него напрямую, в лоб спросили: куда ж ты, милок, так торопишься, ведь еще нога, трамваем отрезанная, не отросла, он и запнулся. О порог вечности. Поскольку вопрос это не бытовой, а глубоко промыслительный, не имеющий конкретного ответа. Философско-религиозных свойств, нравственного шатания по кругу. Как если бы вы в котлете увидели фигу и захотели ее съесть. А нельзя, предмет не тот. Не материальный. Так и воля, то есть свобода духа. Это вам не котлета в тарелке.
– Что же, фига? – спросил Прозоров.
– Кому – что, – отозвался тот. – Однако не пора ли пить чачу?
– Рано еще, всего одиннадцать, – взглянул на часы Герман. – Минут десять стоит подождать. Я тоже лежал в нейрохирургическом отделении, мне даже трепанацию черепа делали – пилой джидли. Аккуратно так срезали, перемешали серебряной ложечкой мозг и завинтили обратно. И я как бы родился заново, без страха и упрека к своим мучителям. Я увидел себя изнутри и снаружи, причем сразу в нескольких комплектах, будто клонированный в различных состояниях нравственного уродства. Чем была моя жизнь до операции? Набором больших и малых желаний. Она и сейчас тот же суповой набор, иной быть не может, но уже без обольщения, что я смогу изумить чем-то патологоанатома, когда он вновь возьмет в руки пилу джидли. Нет, его ничем не обманешь и не удивишь.