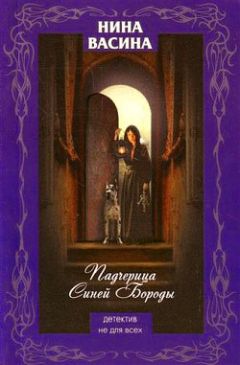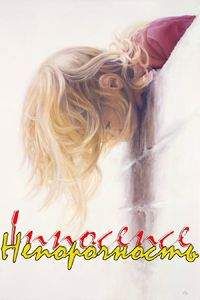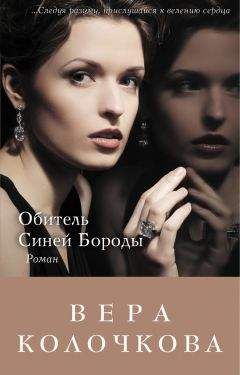— Пенелопа, пусть она поищет что-нибудь, разреши. Письма прадедушки — это же милое дело, а то я устала с нею нянчиться, честное слово! — просит Чучуня.
На часах — половина восьмого. До десяти — полтора часа, а я еще не начала подготовку к делу!..
— Хорошо, — пожимает плечами Пенелопа.
— Спасибо! — я вскакиваю, бросаюсь к Пенелопе, обнимаю ее, потом обнимаю Чучуню, потом спотыкаюсь в коридоре о присевшего Колобка и его обнимаю хватаю свою куртку и открываю дверь.
— Ты куда? — выбежала Пенелопа.
— Искать, искать!..
Пока я ловила такси, ехала в “Кодлу”, возилась в кладовке под полками в поисках саквояжа юриста Козлова, ругалась с Тихоней, Пенелопа задумчиво ходила туда-сюда по прачечной.
Чучуня уже собралась уходить, а Пенелопа все бродила неприкаянно.
— Чего ты маешься? — не выдержала Чучуня. — Она суматошная, себе на уме, но вообще хорошая девочка. Видела бы ты, как умело и тактично она расправилась с ведьмой!
— Нет, — качает головой Пенелопа, — здесь что-то не так…
— Ну сама посуди, она не учится, после смерти отчима еще не отошла, от безделья мается, поэтому и побежала как ошпаренная искать эти самые письма.
— Чучуня, какие письма?! Она даже не спросила фамилию писателя! Нет, наверняка ведь устроит какую-нибудь пакость. Компьютер трогала? Что?.. Смотри мне в глаза! Она трогала компьютер?!.
В кладовке саквояжа не оказалось. Тихоня угрожал съесть целую горсть земли, если я не поверю, что он не трогал проклятый саквояж, и даже стал показательно сгребать в ладонь пыль и мусор у двери. На шум пришел Сутяга и вспомнил, что Офелия после разборок в кладовке прятала в багажник машины Мазарини какую-то странную сумку. — В джип?
— Нет. В “мерс”. Они на нем уехали три дня назад! — схватил Сутяга меня за руку и не дал броситься к ангару.
— Ну почему она вечно везде сует свой нос! — топаю я ногой.
— Куда ей до тебя! — хмыкает Сутяга.
— Но я хотя бы понимаю, что делаю!
— Уверен, что и Офелия спрятала этот чемоданчик в полной сознанке.
— Но почему в машину Мазарини?! — не могу я успокоиться. — Они сунутся в багажник и сразу найдут сумку!
— Не скажи, Офелия всегда все правильно прячет… — улыбается Тихоня. — Сама подумай, ты же не будешь обыскивать свой багажник каждый день. Ты не будешь искать то, что туда не засовывала, так? Расслабься, они бьют по две машины в неделю, скоро “мере” приедет на ремонт.
— Тихоня прав, — кивает Сутяга. — Расслабься. Что-то ты бледная, Алиска, устала небось интриги плести? А, маленькая?
— Отвали… — я лихорадочно соображаю, как выйти из положения без саквояжа, и так увлеклась, что сама себя вслух успокоила:
— А на фиг он мне нужен вообще?!
— “Воть имена!” — поддержал мою решительность Тихоня.
Я осмотрела его внимательно и сняла с головы кепку.
— Дай поносить, — И все? — нарочито радостно изумился Сутяга. — Никуда не надо ехать?
Неужели отделаемся одной только кепкой?
— Это моя любимая финская кепка! — обеспокоился Тихоня. — Не надо ее бросать в воду!..
— Ладно, так и быть, подкиньте меня к Казанскому вокзалу и подождите там с полчасика.
— Знаешь, Алиска, может, куртка моя подойдет, а? — Сутяга потряс полами распахнутой рабочей куртки! — Бери все — портки, трусы, только избавь меня сегодня от поездок с тобой!
Куртка, конечно, велика. Но, с другой стороны… Болтающиеся пустые рукава внизу, подозрительные пятна, кепка, закрывающая пол-лица…
Я беру грязную, в мазуте, ладонь Тихони и провожу ею по щекам и подбородку.
— Это ты зря, — оторопел он. — Теперь тебя в метро не пустят…
В метро я прошла запросто и даже без карточки — пристроилась сзади объемной женщины. Но на Казанском оказалось, что камера номер пять ручной клади закрыта на обед. На тридцать минут. Представить себе существование подобного идиотизма я не могла — а если у человека поезд отходит через десять минут и ему нужно срочно забрать свой чемодан?!
Таких обнаружилось двое. На моих глазах двое мужчин по очереди, но совершенно одинаково, исступленно дергали решетку, стучали ногой по стойке и матерились.
Я сидела в это время на полу неподалеку, подстелив под себя газетку и опустив голову в руки на коленях, Кепка скрывала почти всю голову, полы куртки доставали до самого пола, “камелоты” мои, конечно, подвели, они, хоть и замызганные изрядно, гордо торчали дорогими бульдожьими носами из-под расклешенных джинсов. На часах в проходе минутная стрелка доползла до двойки, а это значило, что уже десять минут, как никого нет.
К двадцати двум минутам стал понемногу собираться народ, я потянулась, зевнула и осмотрелась. Муж-жена-ребенок, муж-жена и два ребенка, старик в валенках с калошами, мужчина с очень грязными ногтями на обветренных руках (навряд ли директор “Медикуна” с горя пошел в разнорабочие), и, таким образом, подозреваемых осталось двое — господин почтенного возраста и гордой осанки и суетливый толстяк, тут же громко всех оповестивший, что он командировочный.
Раза три мимо меня прошло туда-сюда что-то бомжующее (судя по разваленным и ужасно вонючим ботинкам). Потом это постучало меня по кепке, я подняла голову и узнала, что заняла чужое место, и если не хочу получить по “балдешке”, то должна пройти к туалетам и “прописаться” у Марго. Выдав информацию, это вытащило из рванья на груди наушники от плеера, нацепило их на косматую голову и ушло, подтанцовывая.
А вот интересно, мне нужно будет здесь прописаться или прописаться?
Я решила с риском для “балдешки” посидеть еще десять минут.
Две семьи, замученные Москвой до полного дебилизма, получили свои вещи.
С трудом уволок огромный рюкзак старик в валенках. Мужчина с грязными обломанными ногтями оказался другом приемщика, они стали обсуждать последнюю забойную пьянку и считать потери после нее. Господина почтенного возраста это почему-то расстроило, и только он начал лекцию о вреде алкоголя, как вдруг установилась странная тишина. Я повернула голову набок и осторожно посмотрела из-под козырька кепки на стойку. Приемщик и его друг удивленно уставились на строгого господина и на толстяка-командировочного. Я тоже глянула. Эти двое всматривались в правое крыло длинного прохода и словно застыли на глубоком вдохе, забыв закрыть рот. Чтобы увидеть, что их так поразило, пришлось изобразить, что я устала до степени полной необходимости прилечь, и немедленно.
Поелозив попой на газете, я укладываюсь на пол, подложив локоть под голову, и смотрю в проход. И до такой степени не верю своим глазам, что, забывшись, поднимаю козырек кепки, обнаружив таким образом свое лицо. На меня идет… саквояж юриста Козлова!.. Саквояж держит рука в желтой перчатке, поднимаю глаза… Последний из братьев, оставшийся в живых, Гога Мазарин собственной персоной. Смотрит в мое открытое лицо угрюмо, но с ехидцей. Совершенно не замечая обалдевших от вида саквояжа важного господина и толстяка командировочного (а от чего им еще прийти в такой столбняк, не от желтого же пальто Гоги в сочетании с черным траурным шарфом?!), Гога подходит, наклоняется ко мне и злорадно интересуется:
— Ты не потерялась, девочка? Пойдем, папочка отвезет тебя домой.
Хватает меня свободной рукой за шиворот и ставит на ноги.
— Этот номер у вас не пройдет! — возмущаюсь я, пока он волочет меня по проходу. — Никаких папочек! Хватит с меня папочек в этом месяце!.. — и так далее, еще много всего, что я думаю о Гоге Мазарине как о потенциальном папочке и об умственном развитии его детей, если они будут.
В машине (“Мерседес” цвета морской волны) Гога ударил меня по лицу. Он объяснил это срочной необходимостью. Он сказал, что больше не может слышать мой голос, видеть мою физиономию, мою лживые глаза, мой хитрый нос и детский рот, испорченный ругательствами и враньем.
— Какого черта ты тогда притащил меня сюда, идиот? — совершенно искренне удивилась я, спонтанно перейдя после пощечины на “ты”.
Гога покопался под сиденьем и вместо ответа зазвенел вытащенной цепью, после чего бросил мне на колени ее конец с тяжелым металлическим ошейником.
— Я тебя ищу уже неделю. Пора, детка, пора!..
— Твоему брату это не понравится! — отодвинулась я на всякий случай подальше и забилась в угол.
— Он умер. Я это сделаю для себя.
— А может, мы договоримся?.. Отчим стащил у тебя деньги, я могу их вернуть!
— Да я сам готов заплатить, чтобы приезжать потом и смотреть на тебя с ошейником на шее возле гроба моего брата.
— Что интересного, если я умру в этом склепе? Ты что, снимешь на пленку мои предсмертные мучения и ПОТОМ будешь показывать гостям и хвастаться, как ты обошелся с любимой девочкой своего брата?!
— Ты не умрешь, — по-деловому сообщает Гога, задумывается и разъясняет:
— То есть ты, конечно, когда-нибудь умрешь… От старости. А пока посидишь возле моего брата, я тебя буду кормить… — он опять задумывается, — раз в два дня. А зачем чаще? Двигаться активно ты не сможешь, опорожняться будешь под себя, сама постараешься есть поменьше.