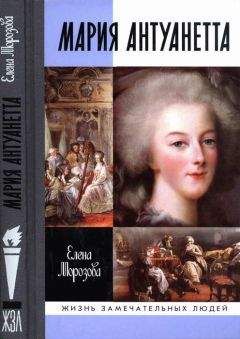— У тебя есть время остановиться и выпить кофе? — спросила Селеста.
— Пожалуй, нет, — ответил Перри. — Много дел!
Она взглянула на его профиль. Казалось, он в полном порядке. Его мысли были сосредоточены на предстоящем дне. Она знала, что ему понравилось его первое школьное собрание, понравилось быть одним из школьных папаш, щеголять в корпоративной форменной одежде в некорпоративном мире. Ему нравилась роль папы, он даже наслаждался ею, разговаривая с Эдом в слегка ироничной манере и подсмеиваясь над этой ролью.
Все они хохотали, глядя на близнецов, которые носились по сцене в костюме огромного зеленого крокодила. Макс носил голову, а Джош — хвост. Когда мальчишки разбегались в разные стороны, зрителям то и дело казалось, что крокодила сейчас разорвет на две части. Перед тем как им уехать из школы, Перри сфотографировал мальчишек в костюме крокодила на террасе зала, на фоне океана. Потом он попросил Эда сфотографировать их вчетвером — мальчики выглядывают из-под костюма, Перри и Селеста сидят на корточках рядом с ними. Эти снимки попадут в «Фейсбук». Когда они шли к машине, Селеста видела, как он возится с телефоном. Какие там будут подписи? «Родились две звезды! Рок-н-ролл ужасного крока!» Что-то в этом роде.
— Увидимся на вечере викторин! — говорили все друг другу, уходя в тот день из школы.
Да, он в отличном настроении. Все должно быть хорошо. С тех пор как он вернулся из последней командировки, никаких размолвок между ними не было.
Но Селеста успела заметить в его глазах вспышку гнева, когда сказала, что уйдет от него, если он подпишет петицию по поводу исключения Зигги. Она хотела, чтобы он воспринял ее слова как шутку, но поняла, что этого не получилось и, должно быть, «шутка» поставила его в неловкое положение перед Мадлен и Эдом, которых он любил и которыми восхищался.
Что на нее нашло? Наверное, дело в квартире. Квартира была уже почти полностью обставлена, и в результате возможность ухода становилась реальной. Она постоянно спрашивала себя: «Уйду или нет? Конечно уйду, я должна. Конечно не уйду». Вчера утром она даже застелила кровати чистым бельем, находя в этом занятии странное умиротворяющее удовольствие и стараясь, чтобы постели выглядели привлекательными. Но вот посреди прошлой ночи Селеста проснулась в собственной постели, чувствуя на талии тяжесть руки Перри. Лениво крутился потолочный вентилятор, как это любил Перри, и она вдруг подумала о тех застеленных кроватях и ужаснулась, словно совершила преступление. Как она могла предать мужа! Она сняла и обставила другую квартиру. Какой безумный, злонамеренный и эгоистичный поступок!
Может быть, угрожая Перри тем, что оставит его, она хотела признаться в содеянном, не в силах больше нести бремя своей тайны.
Разумеется, дело было еще и в том, что, думая о Перри или о ком-то еще, подписывающем петицию, Селеста приходила в ярость. Но в особенности о Перри. Он в долгу перед Джейн. Долг семейный — из-за того, что совершил его кузен. Мог совершить, напоминала она себе. Наверняка они не знают. Что, если Джейн не расслышала имени? Это мог быть Стивен Бэнкс, а вовсе не Саксон Бэнкс.
Зигги мог оказаться ребенком кузена Перри, который обязан ему по крайней мере своей лояльностью.
Джейн — подруга Селесты, и даже не будь она ею, ни один пятилетний ребенок не заслуживает того, чтобы община травила его.
Перри не поставил машину в гараж, а остановился на подъездной аллее у дома.
Селеста решила, что он не собирается в дом.
— Увидимся вечером, — сказала она и наклонилась, чтобы поцеловать его.
— На самом деле мне надо взять кое-что из письменного стола, — сказал Перри, открывая дверь машины.
Тогда она это почувствовала. Какой-то запах или изменение электрического заряда в воздухе. Это имело какое-то отношение к развороту его плеч, его отсутствующему взгляду и сухости в собственной гортани.
Он открыл перед ней дверь, вежливым жестом пропуская вперед.
— Перри, — обернувшись, быстро произнесла она, и он закрыл за ней дверь.
Но потом он схватил ее за волосы сзади и сильно, невероятно сильно потянул. Резкая боль пронизала голову, и глаза Селесты моментально наполнились невольными слезами.
— Если ты еще хоть раз так же унизишь меня, я убью тебя, на хрен, убью тебя! — Перри сжал ее волосы еще сильнее. — Как ты смеешь! Как смеешь! — Потом он отпустил ее.
— Прости меня, — сказала она. — Прости меня, пожалуйста.
Но, должно быть, она произнесла эти слова как-то не так, потому что он медленно шагнул вперед и взял ее лицо в ладони, словно собираясь нежно поцеловать.
— Не чувствую раскаяния, — сказал он и шмякнул ее головой об стену.
Расчетливая нарочитость содеянного показалась ей столь же шокирующей и нереальной, как и в первый раз, когда он ударил ее. Эта боль затрагивала не только тело, но и душу, и душа болела, как от измены любимого человека.
Все поплыло у нее перед глазами, словно она напилась.
Она соскользнула на пол.
Подступила тошнота, но ее не вырвало. У нее бывали позывы к рвоте, но ее никогда не тошнило.
Селеста услышала его удаляющиеся по коридору шаги. Она свернулась калачиком на полу, поджав колени к груди и обхватив руками невыносимо пульсирующую голову. Она вспомнила, как плачут и жалуются сыновья, когда ушибутся: «Больно, мама, ой как больно!»
— Сядь, — произнес Перри. — Милая, сядь.
Он опустился на корточки рядом с ней, усадил ее и осторожно приложил к ее затылку пакет со льдом, завернутый в кухонное полотенце.
Голову начало обволакивать приятной прохладой, и Селеста повернулась, вглядываясь затуманенными глазами в его лицо. Оно было смертельно бледным, с лиловатыми кругами под глазами. Черты его лица осунулись, словно его терзала какая-то ужасная болезнь. Он всхлипнул. Нелепый, безысходный звук, как будто животное попало в капкан.
Она повалилась вперед и уткнулась в его плечо. Сидя на сверкающем полу из черного ореха, они раскачивались взад-вперед под высоченным, как в соборе, потолком.
Мадлен часто повторяла, что жизнь в Пирриви напоминает жизнь в деревне. Она в целом обожала этот дух общины, за исключением, разумеется, тех дней, когда оказывалась в цепких лапах ПМС. В те дни ее раздражали улыбки и дружеские приветствия людей, которые попадались ей в торговом центре. В Пирриви люди были тесно связаны друг с другом, будь то школа, клуб сёрферов, детские спортивные команды, спортзал, парикмахерская и так далее.
Когда она, сидя за письменным столом в своем тесном кабинетике в театре Пирриви, звонила в местную газету, чтобы узнать, нельзя ли разместить в следующем выпуске объявление на четверть страницы, это означало, что она звонит не просто Лоррейн, рекламному представителю. Она звонит Лоррейн, у которой есть дочь Петра, одного возраста с Абигейл, сын — учится в четвертом классе в школе Пирриви — и муж Алекс, владелец местного винного магазина и член футбольного клуба «для тех, кому за сорок», как и Эд.
Разговор не получится кратким, потому что они с Лоррейн уже давно не общались. Мадлен осознала это, когда телефон уже зазвонил, и чуть не дала отбой, чтобы вместо звонка послать имейл. У нее сегодня много дел, и она задержалась после школьного собрания, но все же хорошо было бы поболтать с Лоррейн. И хотелось узнать, что слышала Лоррейн про петицию, но, правда, иногда ее бывает не остановить и…
— Лоррейн Эджели!
Слишком поздно.
— Привет, Лоррейн, — сказала Мадлен. — Это Мадлен.
— Дорогая!
Лоррейн следовало бы работать в театре, а не в местной газете. Она подчас разговаривала с напыщенной театральностью.
— Как дела?
— О господи, нам надо встретиться за чашечкой кофе! Есть о чем поболтать. — Лоррейн заговорила совсем тихим, приглушенным голосом. Лоррейн работала в большом общем офисе без перегородок. — Какую пикантную сплетню я услышала!
— Немедленно рассказывай, — радостно произнесла Мадлен, откинувшись назад и удобно вытянув ноги. — Прямо сейчас.
— Ладно, вот тебе намек, — сказала Лоррейн. — Parlez-vous anglais?[2]
— Да, я говорю по-английски, — ответила Мадлен.
— Это все, что я могу сказать по-французски. Так что это французское дело.
— Французское дело, — смущенно повторила Мадлен.
— Да, и, гм, оно имеет отношение к нашей общей подруге Ренате.
— Это как-то связано с петицией? — спросила Мадлен. — Надеюсь, Лоррейн, ты не подписала ее. Амабелла даже не говорила, что ее обижает именно Зигги, а теперь школа каждый день отслеживает ситуацию в классе.
— Угу, пожалуй, петиция — это уж чересчур, правда, я слышала, что мать этого ребенка довела Амабеллу до слез, а потом в песочнице пнула Харпер ногой. Полагаю, в каждой истории есть две стороны, но нет, Мадлен, это никак не связано с петицией. Я говорю о французском деле.