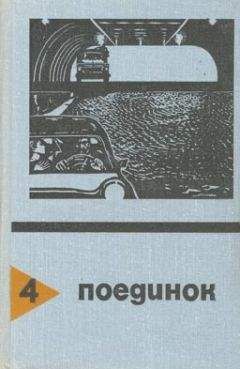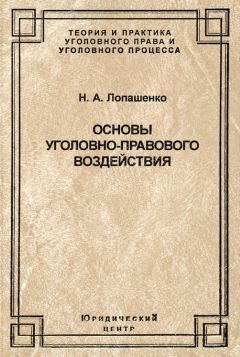Что Чернышев бесследно исчез — не было сомнений. Комаров и его люди проверили все больницы и тому подобные учреждения, побывали у него на работе, убедились, что он не уволился, с жилплощади не выписывался и так далее и тому подобное. Что Михайловская знала Чернышева и до замужества состояла с ним в интимной связи, что эта связь не прекращалась и после свадьбы Зоси с Чеславом Михайловским, тоже сомнений не вызывало. Не требовало особых доказательств и то обстоятельство, что Чеслав Михайловский, узнав каким-то образом о Чернышеве и даже познакомившись с ним, ненавидел любовника жены. А главное, жили Михайловские на улице Восстания, в доме номер семьдесят шесть, буквально в нескольких шагах от пруда, из которого выловили мешок.
Эти и прочие сведения, собранные Комаровым, были доложены мною прокурору, который, похмыкав и почесав карандашом за ухом, осторожно согласился, что да, мол, действительно, обстоятельства неясные и разработать версию Чернышев — Михайловские стоит. При этом он всё же не забыл указать на самое слабое звено в цепи — на содержимое страшного мешка.
— Всё превосходно, — говорит. — Но не вижу ни одного доказательства, что найденный торс — это торс Чернышева. Вот, что вам надо доказывать в первую голову. И вам и Комарову. В общем, думайте…
Единственный надежный свидетель, Милехин, ничего толкового не показал. Вспомнил он, что у Чернышева на левой руке был рубец от ожога, но опознавать тело по фотографии категорически отказался.
— Увольте, — говорит. — Нипочем не узнаю. И ещё нервы у меня…
Вся надежда оставалась на водолазов, вызванных Комаровым. Под предлогом предполагаемой очистки пруда они без малого неделю копались в иле на дне и, как стало мне известно, проклинали всех и вся за эту работенку. Бригадир ежедневно звонил мне по вечерам и мрачным басом перечислял находки — ржавые ведра, кастрюли, какие-то галоши, банки и склянки. Разговаривая с ним, я чувствовал, что голос мой сам по себе принимал подхалимскую интонацию. А водолаз в ответ принимался бубнить свое — дескать, искать сокровище с «Черного принца» в Балаклавской бухте куда интереснее и проще, чем ваши — он так и. подчеркивал: «ваши» — трупы. Кончилось это тем, что однажды он собственной персоной явился в прокуратуру — могучий и громогласный.
— Баста, — говорит, — начальник. И точка. И хватит. И давайте мирно разойдемся, как две белокрылые чайки. Меня ребята за грудки берут: ни тебе толку от спусков, ни зарплаты. Голый оклад без премиальных.
— Подожди, — говорю, — давай разберемся.
— Соловья баснями не кормят!
— Да ты послушай…
— И слушать не хочу!..
Дискутируем мы таким образом и не слышим, как в комнату вошел прокурор.
— В чём дело? — спрашивает. — Вы кто, товарищ?
— А ты кто?
— Прокурор района. Чем вы недовольны?
— Прокурор, значит? Ты-то мне и нужен.
И такое понес мой водолаз, что пенсне на носу у прокурора задрожало, а это, по моим данным, значило, что начальник в гневе.
Однако на водолаза грозный вид прокурора впечатления не произвел. Встал он в картинную позу, раздвинул ноги в клешах и ботинках великанского размера и рубит с плеча: отказываемся, мол, надоело грязное дно месить, пора кончать, и никаких гвоздей.
Смотрю, щеки у прокурора побелели. Снял он пенсне, медленно достал платок, подул на стеклышко, почистил, подул на другое, протер, водрузил пенсне на место и говорит:
— Вот что, моряк. Здесь не частная лавочка, и торговаться с вами я не буду. Завтра приступите к работе в обычное время. Не выйдете — будем судить.
— Не бери на пушку!
— И не собираюсь. Не привык. И я тебя заверяю: анархии не потерплю!
Повернулся и пошел к двери.
Инцидент на этом был, как говорится, исчерпан, но, к сожалению, поиски ничего не давали. Крохотный прудишко надежно укрыл илом остальные части расчлененного трупа. Вопрос — Чернышев или не Чернышев? — оставался открытым.
В таком положении находилось дело в тот момент, когда Михайловская, кончив плакать, осторожно пудрила нос, а я, потупив взор, искал и не находил приём, который взломал бы Зосину оборону.
Как ни крутил я, позиция Михайловской выглядела неуязвимой. Оставалось одно: надеяться, что муж её Чеслав, которого допрашивал прокурор, окажется разговорчивее.
Зосю и Чеслава сотрудники МУРа доставили по нашим повесткам одновременно, но порознь. Чеслава привезли прямо из мастерской, а Зосю перехватили на лестнице, когда она с сумкой шла в магазин. Получилось не очень вежливо, но что поделаешь: в интересах следствия не могли мы вызывать супругов по почте.
Попудрилась Зося; послюнявив палец, пригладила брови и улыбается, словно это не она только что ревела в два ручья.
— Мне можно идти? — спрашивает.
— Пока нельзя, — говорю.
— Но я же ничего не знаю.
— Всё равно нельзя. Посидите в коридоре.
— Зачем?
— Так надо, — говорю.
А сам думаю: как там дела у прокурора?
Обыск.
Я еду на свой первый обыск. Пока с Зосей беседует помощник прокурора, а прокурор допрашивает Чеслава, я должен обыскать комнату Михайловских, подвал и чердак дома номер семьдесят шесть. В кармане у меня мною же выписанное постановление с санкцией прокурора. Другое такое постановление десять минут назад вручено Комарову. Ему поручена слесарная мастерская, где служит Чеслав.
Со мной в рыжем «рено» — сотрудник уголовного розыска, вызванный по телефону, и врач местной больницы, наделенный на неопределенный срок титулом и правами эксперта.
Надо ли говорить, что к дому номер семьдесят шесть прибыл я отнюдь не в парадном расположении духа. Вылезли мы из машины и вместе с сопровождающими лицами — дворником и понятыми — поплелись на самый верхний, четвертый этаж по узкой и плохо освещенной лестнице.
Описывать процедуру обыска комнаты и подвала я не стану. Скажу лишь, что была она долгой, утомительной и небесплодной. Начали мы её при полном блеске солнца, а кончили при свете фонаря «летучая мышь», выданного нам хозяйственным и жадноватым дворником.
К шести часам утра я падал с ног от усталости и едва не пел от торжества. На чердаке, в полуметровом слое шлака, под завалами источенной жуком мебели обнаружились бурки из черной колючей шерсти, покрытые бурыми пятнами, и вся в таких же пятнах железнодорожная шинель, свернутая и перетянутая алюминиевой проволокой.
Забегая вперед скажу, что немного погодя чердак подарил нам ещё одну находку — маленький топорик со следами крови на топорище и обушке.
Топорик этот нашел Пека.
С каким великолепным апломбом предъявлял я Чеславу Михайловскому наши доказательства! Одну за другой выкладывал бесспорные сокрушительные улики — железнодорожную шинель, протокол её опознания Милехиным, бурки, тоже опознанные Милехиным, как принадлежащие Чернышеву, показания соседей, не раз видевших Чеслава и Зосю в обществе убитого, словом, все плоды труда своего, Комарова и прокурора, главным образом — Комарова, который опросил соседей, предъявил Милехину шинель и бурки и в конечном счете разыскал самого Михайловского. Если верить моим институтским наставникам, подозреваемый должен был растеряться, сбиться с тона, возможно — зарыдать и после этого признаться во всём и умолять о снисхождении. Приступая к допросу и предвидя конец, я заранее жалел Михайловского, который ничего не подозревал и спокойненько курил папиросу, предложенную мной в соответствии с классическими образцами. За моими плечами стояло знание теории, стояли прокуратура и уголовный розыск с их мощными, налаженными аппаратами. Моими помощниками были разработанные специалистами техника и методика допроса; я располагал уликами, мог привлечь как союзника науку — физику, химию, медицину; у меня имелись советчики и друзья. Короче, я был вооружен и не одинок…
По всем учебным правилам, допрос я повел в мягком тоне и начал с предметов отвлеченных. Расспросил о житье-бытье, о взаимоотношениях с Зосей, о службе, поинтересовался, часто ли выпивает, а когда выпьет, каков — спокоен или, наоборот, вспыльчив, занес полученные ответы в протокол и, как бы между прочим, спрашиваю:
— Чернышева знаете?
— Знаком.
— Давно?
— А что?
— Отвечайте!
— Давно.
— С какого времени?
— Я же сказал: давно.
— Слушайте, — говорю. — Так у нас не пойдет. Вы в прокуратуре, а не в гостях. Отвечайте по существу.
Вот тут-то и показал Чеслав характер. Смерил меня взглядом, пожевал папироску и — замолчал. И, как я ни бился, не проронил больше ни слова. Пришлось мне в протокол собственноручно выписывать малоприятную для моего следовательского гонора фразу: «Ответа нет», а под конец ещё одну — совсем уже обидную: «От подписи отказался» — и вызывать понятых.