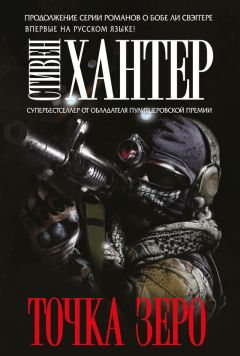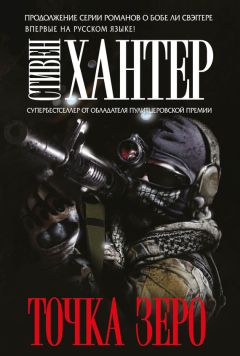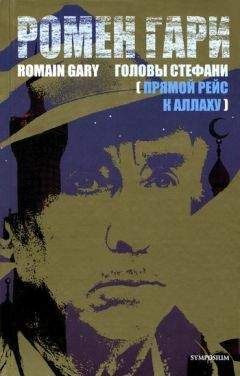– Хорошо, – сказал он, – я иду. – Он повернулся к Свэггеру. – Извини, старик. Мне не захочется жить в мире, в котором эта женщина умрет, а я останусь в живых. – Он развернулся. – Боджер, не стреляй. Это Крус. Я иду к тебе.
Боб протянул было руку, чтобы прикоснуться к сыну, не в силах отмахнуться от горькой мысли: «Нет, это неправильно, я же только что его нашел!», чувствуя, как из глубины колодца, о существовании которого он даже не подозревал, поднимается волна боли и страха. Но Рей уже шагнул в распахнутую дверь и скрылся в холодильнике.
Свэггер подумал, что вот он, самый страшный кошмар войны. Он стрелял сам и стреляли в него, он убивал ножом, испытывал жуткий ужас, выматывался до полного истощения, видел, как ребят, выполнявших его приказы, разрывало на куски. Ему здорово доставалось с полдюжины раз, он чувствовал страх при виде крови, собирающейся в бесконечные озера, испытывал панику, молил бога пощадить его, судорожно вжимался в землю, стараясь укрыться от посланцев смерти, ищущих его, – он испытал всё. Но нет ничего хуже, чем посылать на смерть сына. Свэггер беззвучно заплакал.
Холодильник с пивом,
продовольственный магазин «Хиэр фор фуд»,
2955, Висконсин-авеню,
центр Джорджтауна,
Вашингтон, округ Колумбия,
21.48
Сначала Крус ничего не смог разглядеть. По какой-то причине холодильник внутри был затянут легкой дымкой. Он увидел лишь стеллажи высотой по плечо и сверкающую алюминиевыми боками экспозицию всех ведущих мировых сортов пива. Но затем Рей услышал дыхание и проследил, откуда оно доносилось. Заглянув за последний стеллаж, он увидел Боджера и женщину, переплетенных вместе у дальней стены.
Лицо дамы застыло в ступоре. Похоже, она потеряла всякую надежду и находилась в полубессознательном состоянии. Боджер прижимал ее к себе, обвив ногами ее бедра. «ЗИГ-Зауэр» с взведенным курком находился в дюйме от ее уха. Боджер высунулся из-за головы женщины, и Крус впервые смог хорошенько его разглядеть: поразительно привлекательный мужчина с отросшим ежиком светлых волос на голове, суровым широким лицом, тонкими щеками под нависшими балдахинами скулами и свирепыми обезумевшими глазами воина.
– Боджер, отпусти ее, черт побери. Она…
– Заткнись, щенок, это мой танец, я заплатил оркестру.
Рей застыл, чувствуя на себе взгляд противника.
– Столько с тобою хлопот, а ты – жалкая тощая крыса. Проклятие, если бы я в трех случаях оказался хоть на микросекунду быстрее, ты пополнил бы списки мертвых. У тебя рефлексы как у кошки, твою мать. Что, козел, думаешь, сможешь увернуться и от этого?
Оторвавшись от уха женщины, «ЗИГ» плавно повернулся в сторону Рея, точно в центр груди. Указательный палец Боджера принялся ласкать спусковой крючок.
– Это не война, – заметил Крус. – Это казнь. Такой солдат, как ты…
– Заткнись, ублюдок! Я потерял двоих замечательных парней, пытаясь замочить тебя. Известно ли тебе, как трудно найти таких хороших ребят?
– Я был знаком с одним таким. Билли Скелтон, младший капрал морской пехоты. Один подонок разорвал его пополам.
– В тот день ему не повезло. Знаешь, что я больше всего ненавижу в тебе, твою мать? Я чувствую это даже сейчас, хотя конец уже близок. Это твоя долбаная уверенность в своей моральной правоте. Вот ты стоишь передо мною, зная, что через три секунды я продырявлю пулей тебе сердце, и ничего не можешь с этим поделать, но по-прежнему считаешь себя святым, потому что поклоняешься какой-то сучке по имени Честь. И не понимаешь, что она стерва и отымеет тебя по полной, если только ей представится такая возможность. О да, у тебя есть кодекс. Честь, долг, родина. Semper fi, весь этот благочестивый вздор, истинная вера, патриотизм, День независимости, яблочный пирог и вся прочая ерунда из фильмов про войну сороковых годов. О, у тебя есть кодекс, сержант Крус, вот что дает тебе моральное превосходство.
Рей ничего не мог ответить на эти безумные бредни.
– Посмотри на меня. Посмотри на меня! – взвизгнул Боджер, и Крус заставил себя посмотреть прямо в глаза этому человеку.
– Знаешь что, малыш, легко умереть за то, во что веришь. Я видел это десять тысяч раз, и это не так уж и захватывает. Знаешь, что трудно? А трудно вот что: умереть за то, во что не веришь. Вот с чем сталкивались самураи. Они умирали за своего господина, который, как они прекрасно знали, был жалким трусом, подлецом и мошенником. Но они все равно шли на смерть. Вот каким был их кодекс, и я скажу, что это намного труднее, чем та показуха, которую ты называешь патриотизмом. – Его глаза сверлили Рея насквозь. – Вот наш кодекс, козел. Те, кто в день, когда небо обрушилось и земля разверзлась, выполнили свой долг наемников, получили плату и умерли.
Улыбнувшись, он поднес пистолет к виску и вышиб себе мозги.
Парк имени Джорджа Вашингтона,
север штата Вирджиния,
22.19
Сначала, свернув с ярко освещенной круговой магистрали под названием «Кольцо», они ничего не увидели. Деревья по обе стороны дороги, крутые откосы насыпи, мутные огни домов, цивилизация за шумозащитными экранами, движение быстрое и по-прежнему слишком оживленное. Биляль вел машину особенно осторожно, с огромным трудом справляясь с бесконечно возросшим напряжением: конец был так близок, ждать осталось совсем недолго.
Но затем сплошная полоса погруженных в темноту деревьев разорвалась, слева вдалеке показалась река, а за ней, освещенный, словно театральные подмостки, раскинулся сам город.
– Да, это не Париж, – пробормотал профессор Халид. – Когда я впервые увидел Париж – о, то было зрелище. Но ничего, довольно милый. Такой белый.
Огромный город простирался на противоположном берегу реки, сияя в отраженном свете сразу двух источников, воды внизу и низко нависших облаков вверху.
– Ха, – презрительно заметил доктор Фейсал, – город как город. Ничего чудодейственного в нем нет. Знаешь ты его название или не знаешь, это просто лишь скопление кварталов городской застройки с несколькими памятниками, более красивое ночью в своем одеянии из огней, чем при свете дня, когда обнажается его показное безвкусие… Нас что, ждут? Смотрите!
Он указал вперед. Там действительно что-то происходило. За высокими арками моста, переброшенного через реку, слева на крутом берегу виднелось скопление зданий в готическом стиле. Где-то над ними или чуть позади беспорядочный рой кружащих вертолетов, безумие взметнувшихся ввысь прожекторов, а на земле, увиденное сквозь просветы в лабиринте улиц, – самое настоящее столпотворение, озаренное множеством полицейских огней, быстро мигающих красным и синим цветами.
– Быть может, это какой-то праздник, – предположил Халид.
– Нет, нет, только не с таким обилием полиции, – возразил сидящий за рулем Биляль. – Вероятно, случилась какая-то крупная катастрофа, пожар, преступление, что-нибудь такое банальное.
– Надеюсь, никто не пострадал, – сказал Халид.
– Какой же вы глупец! – воскликнул Фейсал. – Эти люди бомбят вашу родину, убивают соотечественников, оскверняют святыни, это сброд бездушных неверных, однако вы проливаете слезу, когда несколько человек погибли при пожаре в борделе.
– На самом деле мою родину они никогда не бомбили, и я вовсе не плачу, но сочувствую горечи утраты. Это очень сильная боль, и неважно, какой веры придерживается человек, которого она постигла. Вы бы это понимали, Фейсал, если бы в вас была хоть капелька сострадания, однако вы слишком любите себя…
– Люблю себя? Люблю себя! Разве я трачу каждое утро целый час на то, чтобы укладывать в ту или в другую сторону скудные остатки своих волос? Разве я тайком любуюсь собой в каждом зеркале? Разве я владею целым лексиконом очаровательных взглядов, почерпнутых из развращенных западных фильмов? Халид, будьте добры, покажите нам «слегка разгневанное, но втайне довольное» выражение.
– Вы сами смотрели западные фильмы, и не раз. С вожделением любуясь плотью, которая так щедро демонстрируется в них. Я вижу ваши высохшие глаза на старческом сморщенном лице, когда они провожают взглядом шестнадцатилетнего подростка в футболке и шортах. Вижу, как вы поправляете налившийся внезапной эрекцией член, надеясь, что никто этого не заметит. Нам крупно повезло, что из-за вас нас всех не арестовали…
– Старики! – не выдержал Биляль. – Молчать! Я устал от ваших нескончаемых склок. Ругань, ругань, ругань через всю Америку. Вы даже не замечаете эту Америку, если не считать мороженого…
– Это вот он, стервятник, одержим мороженым.
– Однако я не глазею на себя в зеркала, и мое сердце всецело принадлежит исламу.
– Прекратите же! – взорвался Биляль, поймав себя на том, что под влиянием стресса, вызванного спором стариков, он незаметно увеличил скорость.
Биляль нервно взглянул в зеркало заднего вида, проверяя, не увязалась ли за ним патрульная машина полиции штата Вирджиния, но ничего не увидел и снова сбросил скорость до допустимого предела.