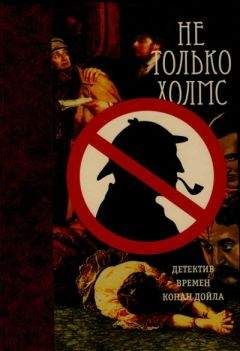— Увы, да. Пренеприятный экзамен, — со вздохом сказал Сантамария.
— Незачем меня поддерживать, — сказал землемер Баукьеро. — Я не боюсь мертвецов. — Когда я увидел убитого Гарроне, я был один и в обморок не упал.
Полицейский нехотя отпустил его руку, санитар морга откинул простыню.
— Нет, я его не знаю, — сказал Баукьеро, внимательно оглядев мертвеца. — Он обошел труп с другой стороны и снова посмотрел на восковое лицо. — Нет, ни разу не видел. Его что, убили?
С левой, согнутой в локте руки у Кампи свисал плащ из тонкой, светлой, прорезиненной ткани. Подойдя к Сантамарии, Массимо взглянул в окно и сказал:
— Сейчас, я вижу, светит солнце. А утром, если помните, небо хмурилось.
Лицо у него было усталое, осунувшееся, но на быстроте реакции усталость явно не отразилась. Одной-единственной фразой он заставил Сантамарию гадать, что же за ней кроется, где тут подвох?
Сантамария снова и снова пытался понять, кто перед ним — дьявольски хитрый, расчетливый игрок, неисправимый комедиант или дружелюбный, ироничный туринец, немного сноб.
— Да, погода для июня необычная, — ответил он, твердо решив вести допрос, а не беседу. — Дайте плащ мне.
Он протянул руку.
— О, не беспокойтесь! Я его брошу на стул.
— Нет, я хотел бы на него взглянуть, если не возражаете, — сказал Сантамария.
Кампи отдал ему плащ. На лице у него появилась горестная улыбка, точь-в-точь как у Анны Карлы во время его официальной беседы с ней. Что это? Согласованная заранее тактика? Условности высшего круга?
— Знаете, это из-за пестика от ступки, — сказал Сантамария, разворачивая плащ и делая вид, будто его изучает.
— Понимаю, я мог спрятать пестик в кармане.
Сантамария не поддался на эту печаль и безысходность в голосе.
— А что здесь?
— Перчатки. Можете взять их. Кстати, если вы хотите произвести в моем доме обыск…
— Пока еще до этого не дошло, — сказал Сантамария.
— В любом случае вы там ничего не найдете. — Правда, сказал он это без всякого вызова. — Я сам Лелло не писал, а несколько открыток и записок, которые за три года получил от него, выбросил. Стараюсь избавляться от лишних бумаг.
— Вы знаете, что Ривьера оставил вам в дверях записку?
— Да, он мне об этом говорил. Ему показалось, что мы недостаточно точно условились. Он имел обыкновение все усложнять.
— Итак, вы решили съездить вместе в «Балун»?
— Разумеется… Еще в четверг вечером. Лелло хотел поискать там что-нибудь любопытное для моего дома в Монферрато.
— Который еще не обставлен?
— Почти что обставлен. Но Лелло питал слабость к безделушкам «Балуна». Он часто ездил туда один, иногда с коллегами.
— А вы?
— Я не ездил.
Сантамария вспомнил, что еще в четверг Кампи как бы вскользь дал ему понять, что он в «Балуне» прежде ни разу не бывал. Значит, предложение наведаться в «Балун» могло исходить только от Ривьеры.
— После четверга и до сегодняшнего утра вы больше не виделись?
— Нет, — ответил Кампи. — Я вернулся из Монферрато усталый и сразу лег спать. Сегодня утром Лелло сказал, что звонил мне вчера, чтобы окончательно договориться о встрече. Но я по давней своей привычке отключил телефон.
— Вы не могли перепутать место и время встречи?
— Мы условились встретиться примерно в полдень, в кафе. Мне казалось, что все абсолютно ясно. Но Лелло был человек педантичный и беспокойный. И у него, надо признать, были на то основания — ведь я довольно рассеянный… Он решил, что мы неверно поняли друг друга, и оставил мне записку, на тот случай, если я по забывчивости заеду сначала за ним. Он всегда беспричинно сам себе усложнял жизнь.
— А он не мог позвонить вам сегодня утром?
— Он вышел рано и, видимо, не хотел меня будить.
— Понятно, — сказал Сантамария.
Он и в самом деле понимал, как мудро ведет себя Массимо, и восхищался его стратегическим талантом. Из слов Массимо становилось очевидно: привязанность не была взаимной и все страхи, сомнения, боль испытывал только Ривьера. Он же, Массимо, лишь терпеливо сносил это обожание, докучливые записки, упреки. И настолько от всего этого уставал, что часто даже отключал телефон. («Преступление на почве страсти? Смешно говорить о страсти с моей стороны, комиссар, после трех лет знакомства!»)
— Вы знакомы с Ривьерой три года?
— Да, примерно так.
— И часто вы виделись?
— Почти каждый день. Во всяком случае, перезванивались очень часто. Нередко мы вместе проводили уикенд, а иногда во время отпуска уезжали путешествовать.
— Вы давали Ривьере деньги?
Кампи не возмутила грубость вопроса.
— Нет, я лишь порой делал ему подарки и покупал билеты на самолет. Лелло дорожил своей независимостью. — Он слегка улыбнулся. — В этом смысле он был ярым феминистом.
— Какие у вас были отношения с Ривьерой? Я хочу сказать, в общем и в целом. Вы не ссорились, ну и тому подобное?
Массимо снова слегка улыбнулся.
— Мы, как говорится, жили в мире и согласии. Каждый считался с интересами другого, хотя иногда мы и…
— Вы и?..
— Лелло был моложе меня, более эмоционален, восторжен, и порой мое… равнодушие к общественным событиям его сердило и даже огорчало. К тому же он служил, вращался… в ином кругу, и это тоже, как вы понимаете…
Сантамария теперь четко уяснил линию Кампи: жалкий служащий, который отчаянно цеплялся за плейбоя со сложнейшим характером. Этот редкий образчик джентльмена и аристократа по рождению, высокообразованный и не чуждый скепсиса, смертельно устал от случайного приключения. («Убийство на почве страсти? Ну что вы, комиссар, в таком случае скорей уж Лелло должен был меня убить».)
— Ривьера был ревнив?
Раз уж синьору Кампи так хочется направить допрос в это русло, почему бы ему не подыграть.
И Кампи, не задумываясь, ответил:
— Да, он был ревнив. Но не в узком смысле слова. К примеру, он ревновал меня к Анне Карле из-за нашей с ней дружбы. Он не представлял себе, что у меня может появиться желание одному провести неделю в Венеции или принять приглашение поехать в Шотландию.
— Значит, он был назойлив, — подсказал Сантамария.
— Нет, вы не подумайте, что бедняга Лелло создавал мне невыносимую жизнь, — тут же оговорился Кампи. — Порой он устраивал мне сцены ревности, но без этого, наверно, не бывает.
Кампи сдался быстро, раньше, чем Сантамария, сообразив, что иначе «выплывет» другой мотив преступления. Не страсть, а отчаяние, презрение к самому себе и к Лелло, ненависть к нему. Возможно, Массимо убил Ривьеру не из ревности и страсти, а потому, что не видел другого пути избавиться от него.
— Вы были… верны Ривьере?
— Да, — ответил Массимо, подозрительно поглядев на него. — Гомосексуалисты вовсе не склонны к полигамии.
— А Ривьера тоже был вам верен? — спросил Сантамария, внезапно вспомнив, что должен еще до вечера позвонить Иоле в Новару.
— О да! Время от времени мне, правда, приходилось устраивать ему сцену ревности, чтобы сделать бедняге приятное. Но повода он мне не давал ни малейшего.
Кампи бросил последнюю горсть земли на могилу гипотезы об убийстве из ревности. Ничего не скажешь, он превосходно подготовился.
Да, но почему он так поспешно «похоронил» гипотезу о преступлении на почве страсти? — подумал Сантамария. Он уже мысленно сформулировал единственно возможный ответ, как вдруг Кампи спутал ему все карты.
— Вот и сегодня утром, когда Лелло вытащил на свет этого инженера Костаманью… — мягко заметил он.
— Кого?
— Инженера Костаманью. Он был… моим предшественником.
— И сегодня утром Лелло вновь заговорил с вами об этом Костаманье?
— Да. Сказал, что тот снова дал о себе знать.
— Когда?
— Вчера вечером.
Сантамария даже не пытался скрыть изумления.
— Вчера вечером?
— Да, и сегодня утром в «Балуне».
Сантамария почувствовал, что терпению его приходит конец.
— Синьор Кампи, вы отдаете себе отчет…
Массимо Кампи протестующе поднял руку:
— Прекрасно отдаю себе отчет. Я все хорошенько обдумал и пришел к выводу, что это очередная фантазия Лелло.
— Предоставьте судить об этом мне, синьор Кампи. И сегодня утром вы сами видели этого Костаманью?
— Нет, и Лелло тоже его не видел. По крайней мере, пока мы были вместе. Он сказал, что видел машину Костаманьи, синий «фиат-124». Тот поставил ее у Арсенала. Лелло был крайне возбужден, но я не принял его слова всерьез. Нет, Лелло ничего не выдумывал, но, надо прямо сказать, он был слишком впечатлительный. Знаете, когда человек вобьет себе в голову, что его преследуют, то ему за каждым углом чудится подозрительная тень.