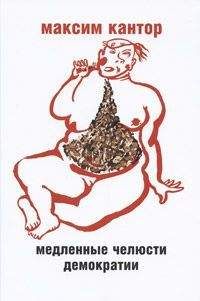Архитектура музея способствовала дерзкому замыслу: как и все прочие музеи современных искусств, этот был перестроен из бывшей фабрики, и фасад здания хранил много специфических фабричных деталей — люки, лебедки, лестницы. Денис Макаров влез на крышу по пожарной лестнице, обвязался веревкой и спустился через люк. План его был прост. Свою картину — а он принес с собой натюрморт — он хотел поставить в кабинете директора, чтобы Бакланов первым делом увидел его, макаровские цветы. Увидит гладиолусы — и поймет, что искусство Макарова достойно стен музея.
— Ведь это красиво, поймите! Просто красиво! — хныкал Денис Макаров. — А красоту никто не отменял!
— Я не в курсе, — оборвал нытика майор Чухонцев. — К делу, юноша.
Итак, Денис нашел в полутемном помещении светящиеся указатели — и по ним дошел до кабинета директора. Путь его лежал через пустые полутемные залы, заставленные объектами современного искусства — непонятными на первый взгляд предметами: телевизорами с пустыми экранами, банками с испражнениями, ржавыми железными конструкциями.
— Представляете, гражданин следователь? Там прямо банки с дерьмом выставляют! Да, с дерьмом!
Молодой человек так увлекся описанием современного искусства, что следователь снова его прервал.
— Про банки с калом уже достаточно. Вы в официальном учреждении.
— Вот и я говорю! — Денис Макаров осекся и, выпив воды из графина, продолжил рассказ.
Юноша петлял между инсталляциями, стараясь не задеть проволоку, протянутую поперек зала, не попасть ногой в горшок с калом. Наконец нашел дверь в кабинет директора.
Было три часа сорок минут ночи, когда Денис ее открыл. Полная луна светила в широкое окно, и видно было почти как днем.
За столом для заседаний сидела крупная дама Роза Кранц, подле нее развалился в кресле вальяжный господин Роман Мямлин. На Розе Кранц было ярко-красное платье, а на Мямлине — строгий двубортный костюм с белым шарфом, небрежно наброшенным на плечи. Юноша перечислял эти детали испуганно, словно в шарфе или платье содержалась какая-то опасность.
— В шарфе, значит, был, — подытожил Чухонцев и записал в блокнот: «бел. шарф».
Напротив них, продолжал рассказывать юноша, по другую сторону стола сидел директор, Эдуард Бакланов, одетый в свой любимый военный френч. Как и многие деятели современного искусства, придавая своему облику суровые черты, Бакланов любил ходить в гимнастерках, шинелях и френчах — его гардероб говорил о том, что актуальное искусство — та же передовая, битва за современность идет полным ходом.
Чухонцев записал и про френч.
— Знаки различия есть? — спросил майор Чухонцев.
— Какие знаки?
— Погоны, спрашиваю, есть?
— Нет у него погон.
Чухонцев записал: «френч без знаков различия».
Денис Макаров испугался и прижался к двери. На него никто не обратил внимания. Люди, сидевшие вокруг стола, сосредоточенно смотрели прямо перед собой и обменивались короткими резкими фразами.
Роза Кранц выкрикивала через равные промежутки времени:
— Бога нет!
Эдуард Бакланов говорил одно и то же, как заведенный:
— Радикальное, актуальное, современное.
Потом замолкал, только глаза его вспыхивали в сером полумраке ненатуральным оранжевым светом. Сначала Денис подумал, что в глазах директора музея отражается светофор, стоящий под окнами здания. Потом он вспомнил, что светофор уже недели три как сломан.
— Радикальное, актуальное, современное, — опять сказал Бакланов громко, и глаза его опять полыхнули.
Роман же Мямлин не говорил ни слова, но рукой делал один и тот же жест — тыкал чем-то длинным и острым в маленькую фигурку, съежившуюся в центре стола. Там, на столе, было какое-то живое существо, и Мямлин колол это существо иглой.
Денис сделал несколько осторожных шагов по направлению к столу. И вдруг увидел нечто потрясшее его воображение, — прямо из-под френча Эдуарда Бакланова тянулся провод (перепуганный Денис даже сперва подумал, что это хвост), и провод этот вел к электрической розетке. Денис бросился вперед — на мгновение он позабыл страх. Предчувствие чудовищного открытия охватило его. Не сознавая опасности, Денис подбежал прямо к столу и схватил директора музея за плечи — в ту минуту, как утверждает юноша, он уже знал, что перед ним не живой человек, а кукла! Холодная кукла, плотно набитая соломой и одетая в военный френч, сидела на стуле совершенно прямо и мигала оранжевыми глазами. Директор музея был подключен к источнику питания — вот почему его глаза зажигались неестественным светом: то были неоновые лампочки в глазницах. Вот почему он выкрикивал через равные промежутки времени «радикальное, актуальное, современное»: то магнитофонная лента крутилась в его соломенной голове.
Денис Макаров повернулся к Розе Кранц, даме в красном, полногрудой кураторше с выпученными глазами.
— Бога нет! — крикнула Роза Кранц, а юноша уже ощупывал ее соломенную фигуру, искал, откуда идет шнур питания. И точно — нашел! — вот он шнур, уходит куда-то в кружевные панталоны. Взволнованный юноша заглянул в мучнисто-белое кукольное лицо кураторши — выпученные глаза смотрели мимо, Роза Кранц не замечала присутствия молодого художника.
— Поймите, — нервно говорил Денис Макаров в кабинете следователя, — она не человек! Понимаете? Они там ненастоящие!
— А какие же? — спросил майор Чухонцев.
— Чучело это! Чучело, соломой набитое!
— Говорящее чучело, — уточнил Гена Чухонцев скептически. — Понятно. — Он сделал пометку в блокноте «солом. чучело». Поставил знак вопроса. — Продолжайте, — сказал Гена посетителю.
Денис Макаров продолжил свой несуразный рассказ. Итак, он держал за плечи чучело Розы Кранц, а слева от него («вот прямо на расстоянии метра, не больше!») совершал однообразные движения Роман Мямлин; точнее, двигалась лишь правая рука бездушной фигуры Мямлина. Директор по финансовой части тоже был набит соломой! И точно такой же электрический провод тянулся из-под его белого шарфика — чучело жило электрической жизнью, оно двигалось и сопело.
Мямлин сделал очередное судорожное движение рукой — он продолжал колоть иглой существо, сжавшееся в центре стола. То была маленькая серая крыса, едва народившаяся на свет. Мямлин тыкал в крысенка длинной иглой, и улыбка ползала по его неживому лицу.
Молодой художник Денис Макаров оцепенел от ужаса. Мысль о том, что перед ним произведение радикального искусства, обычная инсталляция — эта мысль не сразу посетила его. Он глядел на неживых кукол и не мог пошевелиться.
И вдруг Роза Кранц повернула к юноше свои выпученные глаза, словно только сейчас увидела Дениса Макарова, ночного визитера.
— Ешьте его! — дико крикнула Роза Кранц, и Денис Макаров опрометью бросился вон из кабинета.
— Ешьте его! — Страшный крик гудел под стальными перекрытиями Музея современного искусства, крик преследовал ополоумевшего юношу, пока тот, спотыкаясь, бежал среди прогрессивных инсталляций.
— Ешьте его! — выла Роза Кранц, и эхо разносило голос чучела по залам.
Денис бежал сквозь непонятные кривые сооружения, образчики современного творчества, — и ему казалось, что объекты искусства гонятся за ним: банки с экскрементами норовили перевернуться, измазать его, проволока старалась опутать ноги, а огромный телеэкран, по которому демонстрировался один и тот же фрагмент фильма, показал вдруг зверское лицо чучела с выпученными глазами, и чучело завыло — жутко, поволчьи завыло:
— Ешьте его!
Денис бежал — и прибежал ночью к зданию на Петровке, откуда уже уходить не хотел, сидел под дверью до утра, дрожал от холода.
— Рассвело, и я к вам, — сказал Денис. — Поехали?
— Куда поехали? — спросил Гена Чухонцев. — В дурдом?
— Нет, в Музей современного искусства, — сказал непонятливый Денис. — Видите ли, дело в том, что в музее такой инсталляции нет. Думал, это такая художественная скульптура, ну как в Музее восковых фигур, знаете? Но там нет такой инсталляции, я экспозицию хорошо помню.
— И что?
— Как вы не понимаете! Значит, они действительно ненастоящие! То есть я хочу сказать, значит, чучела — настоящие! Они убили Бакланова и Мямлина!
— Кто убил?
— Чучела! Убили и съели!
Гена Чухонцев пересказал мне всю эту галиматью и спросил, как и Денис Макаров:
— Поехали?
— В музей?
— Ну да, в музей. Ты хотя бы репортажи пишешь, ты журналист, человек культурный. — В голосе майора Чухонцева появились искательные нотки. — А я с ними вообще не могу разговаривать, не умею с культурной публикой общаться.
Я понял, почему Гена хочет в музей. Сам он не сказал этого, боялся даже заикнуться, но я-то сразу понял. Дело в том, что в Москве был зафиксирован случай людоедства, — про это, разумеется, нигде не писали, боялись огласки. Однако факт обнаружился страшный: в центральном районе столицы (теперь стало понятно, что это происходило в районе музея) нашли фрагменты обглоданного тела, со следами человеческих зубов. Следствие установило, что данные фрагменты принадлежали иностранному туристу — директору парижского аукционного дома. Следствие было поручено другому отделу (Гена, если бы ему поручили такое, слег бы с инфарктом) — однако все, и Гена в том числе, были в курсе расследования. Собственно расследования никакого не было — началось и развалилось: вещественные доказательства исчезли. Кто-то похитил из морозильной камеры объедки и оставил вместо них пучки соломы. Как хотите, так и интерпретируйте, — Поехали в музей, — сказал я, и мне стало страшно.