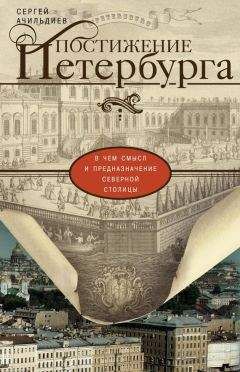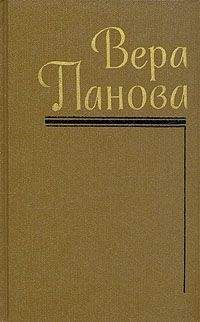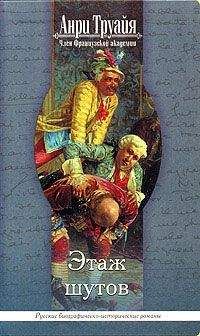– И убийца тот, кто договаривался с Глебом о встрече, то есть потенциальный покупатель Духовидова?
– Если вы говорите правду, – уклончиво ответила Громова. – Факты, к сожалению, этого не подтверждают: в календаре убитого записана только ваша фамилия, и больше никаких записей в тот день нет. Скажите, зачем вообще ему было записывать вас, если он не собирался с вами встречаться?
– Но мы же говорили с ним по телефону и перенесли разговор на следующую неделю, я сказал, что сам зайду. Может быть, у него появился покупатель на мои картины и он хотел обсудить со мной финансовые условия?
– Почему же он не сказал вам об этом?
– О, там все сложно… Прежде чем нас познакомить, Глебушка должен был его обработать, чтобы себя не обидеть. Иными словами, чтобы мне досталось поменьше, а ему – побольше. Так что дело тонкое…
– Это натяжка.
– Но послушайте, ведь должны же были в галерее видеть посетителя, с которым он договаривался о встрече, ведь человек приходил в офис, а там всегда кто-то есть!
– В том-то и дело, что никто вашего таинственного незнакомца не видел. Неужели вы думаете, что мы не расспросили сотрудников галереи? В тот день у Глеба Васильевича не было вообще ни одного постороннего посетителя. Я даже не спрашиваю, как вы могли заметить, о времени вашего звонка – это не имеет никакого значения: в галерее весь день кто-нибудь находится, хотя бы один человек. Для посетителей галерея была закрыта в связи со смертью владелицы, но охранник у входа сидел, а когда уходил, то в самом салоне девушка-консультант оставалась. В офисе был секретарь, рабочие перевешивали картины. И никто никого не видел постороннего. Так что, Владимир Иванович, извините, ваша версия не работает. Напротив, вы знаете о том, что в вечер убийства Миногин обсуждал с кем-то картину Духовидова, картина действительно была, и в тот вечер она являлась предметом разговора, поскольку была выставлена на столик. Кто мог знать об этом, кроме самого Глеба? Только убийца. Так что, боюсь, у меня все же есть некоторые основания подозревать вас в убийстве Миногина.
Пятаков побледнел, на лбу у него выступил холодный пот.
– Анна Николаевна, происходит какое-то страшное недоразумение, или кто-то целенаправленно хочет взвалить на меня вину в этих двух убийствах. Я клянусь вам, что все было именно так, как я вам говорю: я слышал разговор Глеба с покупателем, слышал, как он назначил встречу на девять вечера. Я не был у Глеба, и я не убивал ни его, ни Аделаиду. У меня не было для этого никаких оснований, и я физически не мог бы это сделать, потому что боюсь крови и ненавижу насилие во всех его проявлениях.
Громова смотрела на художника задумчиво:
– Мне хотелось бы вам верить, Владимир Иванович, и пока я не буду применять крайние меры… Однако я прошу вас никуда не уезжать, постоянно находиться в пределах досягаемости следствия. Мы продолжим изучение материалов и опрос свидетелей, но и вы со своей стороны постарайтесь вспомнить – не было ли в последнее время каких-либо событий или фактов, которые могут пролить свет на два убийства. Давайте ваш пропуск, я подпишу.
«Дожил!» – горько подумал Владимир Иванович, вдыхая свежий морозный воздух. – В убийстве подозревают, чуть не арестовали».
Вот уж влип так влип! Он не сомневался, что слышал разговор Глеба с будущим убийцей, наверняка тот и согласился обсудить покупку Духовидова только для того, чтобы попасть к Глебу в дом и без помех его убить. Оставим пока вопрос: зачем? Но как же так получилось, что никто не заметил человека, входившего к Глебу в офис? Что же это за человек-невидимка?
Хотелось выговориться, пожаловаться кому-нибудь, но было абсолютно некому. Если идти к приятелям, то дело закончится пьянкой, а он не мог сейчас себе этого позволить, нужно сохранить трезвую голову. Тещу волновать он не хотел, а больше у него никого из близких не было. Жены не видел два года, он нормальный мужик, были и у него знакомые женщины, но все как-то случайно, мимолетно… Нет, это не то. А к Наталье он ни за что не побежит жаловаться, она его поведение не одобряет, смотрит с недоверием. Она привыкла сама выпутываться из неприятностей, троих детей на себе тащит. Однако надеяться ему не на кого, нужно пойти в галерею, расспросить там на месте, да и работы, кстати, забрать, теперь-то уж точно галерею закроют.
Придя в галерею, Пятаков с порога заметил в зале знакомую фигуру Максима Максимовича. На правах старого знакомого его пустили в галерею, хотя там царил полный траур. Коллекционера можно было узнать издалека: коренастый, сутулый, с густыми кустистыми бровями и крючковатым носом, он был похож на вечно недовольного насупленного филина. Владимир Иванович подошел к нему, они заговорили, и разговор естественным образом перешел к событиям последних недель. Пятаков рассудил, что информация о том, что его подозревают в убийстве Глеба, еще не просочилась, и можно попробовать кое-что вынюхать у старого сплетника.
– Ума не приложу, – притворно изумлялся он, – кому могла помешать Аделаида?
– Что? – недоверчиво спросил коллекционер, наклонив набок свою большую седую голову и прищурив круглый птичий глаз. – Аделаида? Да всему городу! Вы, Володя, просто какой-то святой херувим! Вы лучше скажите, кому она могла НЕ помешать!
– Ну уж, Максим Максимович, вы преувеличиваете! Конечно, ей не многие симпатизировали, но чтобы убить…
– Да это такая гарпия была, что у каждого второго был повод с ней разделаться! Возьмите хоть Лиду Шостак…
– Господи, да Лида же больной человек, прикована к постели…
– Только поэтому я ее и не подозреваю! Из-за кого она слегла?
– Вы хотите сказать…
– Ну вы, Володечка, просто серафим непорочный! Вы не знаете всю историю?
– Представьте себе, не знаю.
Глазки престарелого филина загорелись – он нашел благодарного слушателя, которому можно было пересказать сильно заплесневелую сплетню. Удовольствие предвкушалось немалое.
«Нехорошо слушать гадости про Аделаиду прямо здесь», – подумал было Пятаков, но потом решил, что в его положении уже не до щепетильности, ему надо спасаться от Громовой, для этого все средства хороши, а покойнице уже никакие сплетни не повредят.
– Вы помните, Володя, у Лиды тоже была своя галерея. В те времена они были приблизительно на равных, то есть, с точки зрения Адочки, Лида была главным ее конкурентом. Аделаида, со свойственной ей настырной, хамской… простите, Володя, привычка… по свойственной ей манере втерлась к Лидочке в дружбу. Причем уж такими они стали подругами – неразлейвода. Единственное, что их разделяло, – Лида капли спиртного в рот не брала, а Адочка-то… ну, вы сами знаете. Короче, такая дружба продолжалась несколько месяцев, а потом наша Аделаида предлагает подруге совместную коммерческую операцию: разовую интервенцию на парижский художественный рынок. Понемногу питерскую живопись они и до того вывозили, Ада – почаще, Лида – больше местных покупателей прикармливала. Но совершенно разные прибыли у торговца картинами, когда он на чужой аукцион десять работ выставляет или когда он проводит собственные торги. Чтобы организовать аукцион, нужно иметь связи с комиссаром-призером, гражданином Франции со специальной лицензией, и привезти не меньше ста картин. Ада скупила по дешевке у вашей нищей братии пятьдесят работ, по-моему, вы тогда ей тоже что-то продали…
– Помню. У меня тогда за мастерскую полгода было не плачено, грозились отобрать, я и отдал Аделаиде четыре работы за гроши.
– Вот-вот. Как вы думаете, почему именно тогда на многих художников наехала администрация худфонда с угрозами отобрать мастерские за неуплату? Подолгу ведь не платили, а тут вон разом набросились – вынь да положь!
– Неужели Аделаидины происки?
– А вы как думали! Она нажала на пружины, администрация припугнула вас и ваших коллег – а тут и Аделаида со своим предложением. Хоть и невыгодно, а деньги нужны – вы и продали свои картины. И другие также.
– Ох, зараза!
– Володя, о покойнице… – хмыкнул Максим Максимович.
– Максим Максимович, да ведь душа горит, ведь за гроши отдал работы, а одну картину так жалко, даже фотографии у меня не осталось!
– Все равно нехорошо. Но я продолжаю свое повествование. Аделаида собрала свои пятьдесят работ, обобрав нищих художников. Лида человек не такой жесткий. Она не из Самары, в ней нет этакого провинциального напора – часть работ она купила у авторов по реальным ценам, а часть – взяла под честное слово, договорившись расплатиться после завершения аукциона. С Аделаидой у них договор был такой: у Лиды большие связи во Франции, она хорошо знала комиссара-призера, он обещал им свою поддержку при проведении аукциона. У Аделаиды же, как известно, был свой человек на таможне, она обещала, что картины пройдут границу как по маслу. Доходит до дела. Аделаидина часть груза проходит таможню днем раньше и действительно как по маслу. На следующий день поступают на досмотр Лидины картины – тут начинается фильм ужасов. Таможенники оценивают картины не то что ниже, а впятеро дороже реальной цены и требуют уплаты колоссальной пошлины. Лида в ужасе бежит к Аделаиде, а та – ничего не знаю, мой человек сменился, эта ж смена – чистые звери, ничего сделать не могу. Лида собирает все деньги, какие может, влезает в долги, оплачивает пошлину – а картины на таможенном складе бесследно исчезают. Лида пытается искать правду, но вы же понимаете всю бесцельность такого занятия. А тут на нее начинается первый, как сейчас говорят, наезд – те художники, что дали ей картины под честное слово, требуют денег… Опять-таки, Володя, вы прекрасно знаете, что художники в массе своей народ мягкий, интеллигентный, на жесткие меры не способный, а тут вдруг неожиданно так на Лиду набросились… В чем дело? Аделаида потихоньку накачала, убедила, что Лида с их картинами какую-то махинацию провернула, якобы никуда они не исчезли, а давно уже во Франции на торгах. Как Лида ни оправдывалась, а пришлось ей продать галерею, чтобы со всеми долгами расплатиться. Тут вдруг приходит ей сообщение от того самого знакомого комиссара-призера, что аукцион прошел блестяще, почти все картины проданы по очень высоким ценам. Как? Что? Оказывается, Аделаида под шумок провезла во Францию еще пятьдесят картин (выставить пропавшие Лидины полотна она все-таки постеснялась) и провела аукцион одна, собрав все сливки.