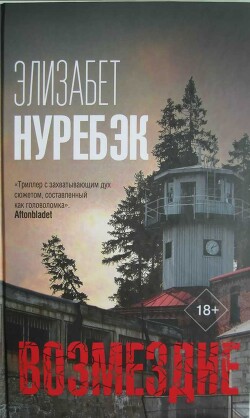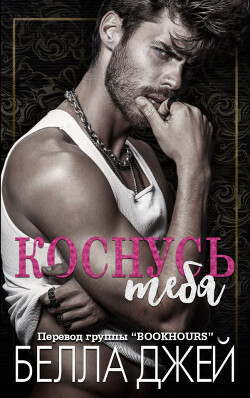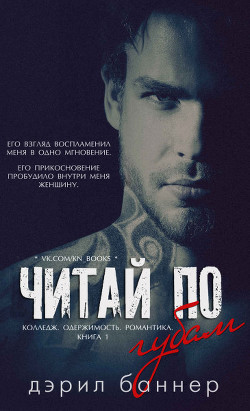И в следственном изоляторе все было именно так. Перед тем, как меня отправили отбывать наказание, я услышала, что некоторые сотрудники сочли мое поведение странным. Что я совершенно равнодушно отнеслась к психиатрической экспертизе и к следственному эксперименту, когда полицейские отвезли меня на дачу, чтобы провести по месту преступления. Они говорили, что я часто улыбалась, но за той улыбой скрывалось полное хладнокровие и отсутствие эмоций.
Признаю, я не прилагала усилия к тому, что запомнить тех, кто приносил мне еду, тех, кто запирал камеру или отпирал ее, чтобы сопроводить меня в туалет, в прогулочный двор или на допрос. Лица сменялись, а я надеялась, что не останусь там надолго. Просто отказывалась в это верить. Если бы я уступила, поддалась скорби по Симону, по маме, страху одиночества, то погрузилась бы во тьму, из которой потом бы не выбралась. Поэтому я вела себя вежливо, а дни и недели проходили, сменяя друг друга. То, что я держалась и даже иногда выдавливала из себя улыбку, сама я воспринимала как нечто позитивное, что потом зачтется мне в плюс.
А получилось наоборот:
Если бы существовало руководство, как надлежит вести себя, чтобы считаться нормальной, когда вся твоя жизнь разорвана в клочья, я прочла бы его с большим интересом. Но истина проста: каждый видит то, что хочет видеть.
Мое поведение во время процесса тоже стало предметом анализа: журналисты ловили каждое изменение тембра голоса во время выступления.
Отмечали, если я говорила возмущенно или равнодушно. Один журналист написал, будто я вела себя С пренебрежением, когда зачитывали результаты вскрытия Симона, не отреагировав даже тогда, когда суду представлялись самые ужасающие подробности. У меня хватило наглости преспокойно закрыть глаза и сделать вид, что я сплю во время прослушивания звонка моей сестры в «службу SOS».
Я же нашла единственный способ все это вынести. Если я с трудом поддерживала себя в состоянии бодрствования, то не потому, что мне было скучно. Я была истощена до предела. Никто не предупредил меня, что возможна подобная реакция. Просидев долгие месяцы в изоляции, я вдруг оказалась в центре всеобщего внимания. После полной пассивности вынуждена была сосредотачиваться в течение многих часов. А подробное описание чудовищного насилия было настолько невыносимым, что мое сознание просто отказывалось все это воспринимать. Я не хотела слышать, как Симону перерезали сонную артерию, как из него вытекла вся кровь, — и знать, что во всем этом обвиняют меня.
После ужина я иду к Адриане, чтобы взять у нее книгу, о которой она рассказывала. Протянув мне ее, она говорит, что забыла спросить, как прошел визит Микаэлы. Я отвечаю, что нормально, но меня не покидало ощущение, что ей не хотелось здесь находиться. Как и Алекс, она, наверное, жалела, что приехала.
— Близкие редко навещают нас ради самих себя, — говорит Адриана. — Им это мало что дает. Мы одеты по-другому и ведем себя не так, как они привыкли. У них отбирают личные вещи и запирают на замок, хотя и на время. Многих это пугает. Ничего удивительного.
— Тогда зачем приезжать? — спрашиваю я. — Когда каждая гема как минное поле, даже разговоры о детстве. Это так тяжело.
В отношениях вообще нет ничего легкого, — отвечаем Адриана. — Будь это так, мир был бы другим. Иди, встань сюда. — Она хлопает ладонью по полу.
Зачем?
Я вопросительно смотрю на нее, но она берет меня за руку и стаскивает с табуретки, на которой я сижу. Потом показывает пару движений, которые я видела в ее исполнении, пока мы лежали в лазарете. Тело у меня неподатливое, а после травмы я двигалась еще меньше, чем обычно. Но Адриана терпелива непокойна, она настаивает на том, чтобы я встала в планку. Видимо, осанка у меня никуда не годится, вскоре мышцы начинают протестовать. Адриана смеется, когда я падаю на пол.
Перевернувшись на спину, я наблюдаю за тем, как она берет свой шест.
— Завтра я снова выхожу на работу, — говорю я.
Часы, проведенные на фабрике, не просто монотонны — они убивают душу. Но если бы Анна не попала в Бископсберг и не атаковала меня, я, вероятно, по-прежнему тянула бы лямку, проживая один бессмысленный день за другим, пока не отбуду свой срок. Если бы не…
Эта фраза преследует меня всю жизнь, я могу привести десятки примеров. Если бы мама не заболела и не умерла. Если бы Симон не изменил мне или если бы мы с ним вообще не встретились, где бы я была сейчас? Какой стала бы моя жизнь? Если бы я не пригласила его на вечеринку, если бы не попыталась отмыть с себя кровь в то утро. Если бы не совершала одну фатальную ошибку за другой. Но от таких мыслей абсолютно ничего не меняется.
— А ты не ходи на работу, — произносит Адриана и, чуть согнув колени, делает выпад шестом.
— У тебя это звучит так легко, — говорю я ей. — Наплевать на все и делать, что хочется.
— Может быть, все действительно довольно просто, — отвечает она.
— Может быть — если ты Королева Бископсберга. Все детство я постоянно слышала, какая я молодец.
В школе и на гастролях, когда ходила с мамой на примерку нарядов или присутствовала на интервью. Маме часто говорили, что я действительно Солнечная девочка. Я была тихая и послушная — похоже, именно эти качества более всего ценились взрослыми.
Если «послушная» означает то же самое, что «аккуратная» и «ответственная», то у меня это всегда получалось естественно. Учителя в школе радовались, что образцовая ученица облегчает им задачу. Но на одной из бесед с родителями в конце четверти учительница, временно замещавшая нашу, сказала, что я, вероятно, слишком уступчива.
— Очень здорово, что у тебя хорошо получается сотрудничать, Линда, — сказала она, глядя на меня. — Но ты могла бы научиться постоять за себя. Необязательно всегда соглашаться. Совершенно допустимо добиваться, чего бы тебе хотелось.
Папа говорил то же самое. Он считал, что я слишком легко приспосабливаюсь к тому, чего, как мне кажется, от меня ждут другие. Чего от меня ждет мама. У меня ведь есть собственная воля? Я ведь могу сказать «нет»?
— Для меня это всегда было проблемой, — говорю я Адриане. Поднявшись с пола, я смотрю на ее плавные движения, — Люди думают, что я все время уступаю другим. Им не приходит в голову, что мне, возможно, так хочется. Мне не удается никому объяснить, какая же я на самом деле. Или же я сама этого не знаю.
— А какая ты на самом деле? — спрашивает Адриана, отставляя в сторону шест. — Если ты молодец и такая сговорчивая, то невольно возникает вопрос, как же ты оказалась в таком месте.
Она прекрасно знает, но до сих пор не спрашивала меня напрямую. И впервые в жизни я рассказываю все как есть.
Семнадцатого сентября я созвала гостей на дачу в Фэрингсё, которую я и Микаэла получили в наследство от мамы. Мы с Алексом поехали туда еще в первой половине дня, потому что я хотела все ему показать.
Главное здание двухэтажное, с балконом над верандой. Вдоль одного торца растет дикий виноград, листья которого к тому времени уже начали краснеть. Дуб вот-вот пожелтеет, а обрывок веревки от качелей, на которых мы с Микаэлой в детстве раскачивались до небес, все еще свисал с толстой ветки. Многие поколения нашей семьи владели этим местом, дедушка утверждал, что его отец родился в большом доме в середине девятнадцатого века.
Справа от дома находятся пристройки. Я показала Алексу столярную мастерскую, где по-прежнему пахло льняным маслом, краской и засохшим клеем. Верстак с рубанком, пилами и прочими инструментами.
Над мастерской есть чердак, где составлены забытые старые стулья, а окна, обвешанные паутиной, прислонены к скату крыши. Мы забрались туда, и Алекс обнаружил среди опилок газеты сороковых годов с новостями времен Второй мировой войны. Страницы пожелтели и рассыпались в руках, но их по-прежнему можно было осторожно перелистать.
Затем мы прошли мимо гостевого домика к мосткам, я опустила пальцы в воду и спросила, не хочет ли он искупаться. Он рассмеялся и ответил, что ему не очень-то хочется мерзнуть.