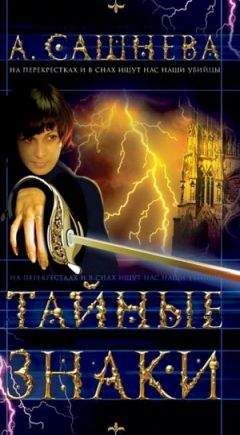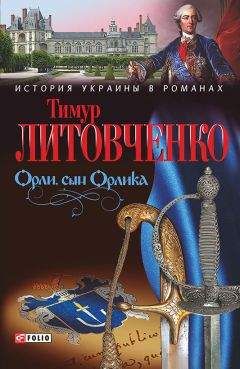— Что стОит? — неуверенно спросил один из танцоров.
— Даром, — процедил Митяй за его спиной.
— А наши все равно содрали бы… — заметила злорадно Катька.
— Наши? Да… — согласился Эдик. — Содрали бы.
Таможню они прошли, почти не заметив. Погранец проштамповал паспорта собранные кучей, не глядя. На выходе из всей этой кутерьмы «Роботы» ждали гладкие, стильные элегантные французы. Они элегантно поздоровались, элегантно оценили прибывшую бригаду. Один из них элегантно заменил сигарету гитариста на местную. Так заменил, что гитарист довольно расплылся, а потом задумался.
Бригада спустилась на подземную парковку и остановилась около трех блестящих новеньких машин. Впрочем, тут все машины выглядели новенькими.
— Мадмуазель! — улыбнулся Стрельцовой один из французов, забрал у нее рюкзак и сумку и закинул все в багажник.
Потом другой француз на ломаном русском объявил:
— Есчо тр-р-ры чэлэвэк сьюда!
Эдик первым кинул свою маленькую сумку, потом барабанщик и гитарист.
— Поверни ноги! Гочподи! — сказал Репеич, подойдя к Катьке. — Терпеть, гочподи, не могу, когда люди так стоят.
— Как?! — удивилась Катька.
— Так, как ты, гочподи! Носками внутрь.
— Э-э-э… — протянула Катька оторопело. В Москве за Репеичем не замечалось такой вони.
— Не «э», а поверни!
Лабухи и танцоры повернулись к скандальчику.
— Это не входило в условия контракта! — оскалилась Катька. — Как хочу, так и буду стоять!
— Да ладно тебе. Насри! — посоветовал тихонько Эдик.
— Уволю!
— Пжалст! — дерзко заявила Катька, но внутри ей стало гадко.
— Да, гочподи! — Репеич окинул Стрельцову презрительным взглядом.
Он хотел сказать что-то еще, но заказчики намекнули, что пора ехать. Сказали они все это вежливо и учтиво, но Репеич все равно почувствовал себя шавкой. Было видно по тому, как он надулся.
В город ехали на нескольких машинах. Катька оказалась на одном сидении с Эдиком.
— Ну что! Схлопотала! — подковырнул ее басист.
— Иди ты! — улыбаясь, рявкнула Стрельцова. — Играть сначала научись!
— А ты задницу лизать! — парировал Эдик.
— Это пусть там танцоры с Бамбуком лижут, что хотят! — огрызнулась Катька.
— Во-во! — ухмыльнулся барабанщик.
Гитарист оглянулся с переднего сидения:
— О чем это вы?
— Да так! О всякой байде! — Барабанщик ткнул гитариста в плечо. — Чего тут выпить путевое бывает? Виски? Джин?
— В Париже надо пить абсент, — тихо сказал Эдик.
— А чего это такое, абсент? — спросила Катька заинтересованно.
Эдик улыбнулся.
Гитарист опять задумался и прозмеил через пару минут:
— Пидарасы эти французы! Гля! Они даже, гля, обидеть не могут! Дауны херовы! Как он мне сигарету сунул! Ну что, гля, трудно было, гля, ему меня козлом обозвать? Так и дал бы по роже! Ненавижу!
И он треснул кулаком в спинку переднего сидения.
— Угреба! Оборотень, нишкни! — повернулся к нему барабанщик.
— Sigarette? — с вежливой учтивостью спросил француз и протянул открытую пачку «Голуаз».
— Спасибо, я потом, — сказал смущенный гитарист и, и взяв сигарету, сунул ее за ухо.
Лабухи затихли. Стрельцова отвернулась к окну. И вдруг удивилась, Эдик сидевший между ней и гитаристом словно испарился или превратился в чемодан. Она даже оглянулась чтобы проверить.
— Да? — с готовностью улыбнулся басист.
— Мне показалось, что ты исчез, — рассмеялась Стрельцова.
— Да. Я на пару минут стал Парижем, — улыбнулся Эдик.
Катька покачала головой и почему-то достала ключ от последней квартиры. Вообще-то она еще собиралась туда вернуться. Там был очень ценный хозяин. Ценность его была в том, что деньги он просил нерегулярно и не лез в моральный облик жилицы, что было немаловажно. Иногда у Катьки собирались такие приятели, что с утра и самой ей было иногда не ловко. Но что поделаешь? Музыканты — веселые люди.
Это был странный ключ. Замок в квартире стоял, наверное, со сталинских времен. И ключ был не маленький и плоский, с множеством пропилов (как все нормальные ключи), а большой, из трубки, на конце которой был металлический «петушок». Катька почему-то поднесла его к губам и свистнула в дырочку.
— Вот… От квартиры. От чужой квартиры. От счастливой, — Катька усмехнулась воспоминанию. — Но я иногда думаю, что своя квартира — только на кладбище. А пока жив, любой дом — гостиница.
— Оптимистично! — усмехнулся Эдик и протянул ладонь. — Дай посмотреть!
«Моя прапрабабушка была замужем за масоном…»
Марго сунула ключ в замочную скважину — за дверью уже стоял галдеж, играла музыка. Жак, наверное, закрыл галерею раньше, чтобы поздравить Ау с днем рождения. Замок повернулся легко, и дверь приветливо открылась. Собаки первыми кинулись приветствовать вошедшую. Люди — раскрасневшиеся, веселые — приветствовали ее возглясами и жестами. Бросился в глаза темный неподвижный взгляд молодого широколицего парня.
— Привет! — сказала Марго, проходя в комнату и направляясь прямо к Ау. — Поздравляю. Желаю счастья, здоровья и все такое!
Они расцеловались, и Марго протянула Ау «узел событий» — колечко в виде змейки с рубином в глазу.
— О! — воскликнула Аурелия. — Какая прелесть! Спасибо! Я чувствую в нем какую-то тайну!
— Да, — на ходу сочиняла Марго. — Моя прапрабабушка была замужем за масоном, и оно досталось мне по наследству. Но я дарю тебе его, Ау. Это необычное кольцо. Волшебное!
— Ну-ка, ну-ка! — проскрипела арфистка и протянула свою цепкую руку. — Покажи-ка мне эту прелесть!
Аурелия послушно задержала ладонь.
— Миленькая вещица, — проскрипела мадам Гасион и повернулась к русской. — Это какой-то тайный знак. Когда-то я видала такие на старинных книгах. Мадам Блаватская… Твою бабушку звали не мадам Блаватская?
— Нет, — помотала головой Марго.
— У нас в Париже было большое общество русских медиумов, — продолжала старая мадам. — Гурждиев был красавец. У меня остались фотографии! Я была совсем мала, но моя мать… Да-да! У нее было нечто похожее. Книга с такими знаками. Правда, потом началась война и все пропало. Ноя помню с детства. В детстве память цепкая. Это, кажется, означает время. Змея кусающая себя за хвост. Да-да… Время. Мама погибла в войну. Немецкий солдат пытался ее изнасиловать, и она выпрыгнула из окна.
— Как печально… — прошептала Аурелия.
— Печально то, что она выпрыгнула! — проскрипела мадам. — А что до самого факта, то это бывает с каждой женщиной хоть раз, и нечего делать проблему! — проскрипела арфистка и снова подняла бокал. — Дерьмо случается, надо отмываться от него и жить дальше. Если бы моя мама знала, сколько дней я проведу на панели, она подумала бы получше.
— На панели?! Вы удивляете меня, мадам Гасион! — воскликнул вдруг Поль. — Это ведь ужасно! Падшие женщины — это такая дрянь…
— Помолчи, щенок! — одернула его старуха и снова обернулась к русской. — Никто не знает какие у кого причины, чтобы быть тем или этим. Мне, напротив, казались ужасными мужчины, которым было все равно, что меня заставило это делать. А некоторые меня даже бесили, они пытались доставить мне удовольствие!!! Лучше бы они просто успокаивали свою похоть. Дерьмо. Но мне повезло! Повезло! Как-то раз я стояла на Пигаль и вдруг услышала звуки арфы. Я побежала на звук, как крыса на Нильсову дудочку. Пожилая женщина сидела прямо на углу перекрестка и перебирала струны. Я была так очарована, что простояла перед ней целый день. И отдала последние деньги. И вот к ней пришел молодой человек, чтобы помочь занести арфу наверх в подъезд, и женщина позвала меня. Она заставляла меня убираться и варить пищу. Она мучила меня занятиями на арфе, но благодаря ей я смогла закончить школу. И теперь у меня есть кусок хлеба. Арфа спасла меня от смерти и от улицы. Иногда мне кажется, что это не я выбрала арфу, а она позвала меня к себе. Арфа спасла меня, и иногда мне кажется, что она меня и убьет. Арфа должна петь, а я не нашла себе замену. Мы умрем в один день.
— Ужас какой! — поморщилась Ау.
— А мне кажется — это самое то! — задумчиво сказала Коша-Марго. — Если бы у меня был слух, я думала бы так же. Мне хотелось бы так же любить свой инструмент, но я — глухарь. Когда-то у меня была флейта, и я чувствовала примерно то же. Но я потеряла ее. Нет. Это неверно. Я отказалась от флейты, потому что хочу стать великой художницей, как Магрит, Кандинский или Дали. А флейта была против этого.
— Ну началось! — фыркнул Поль. — Три сумасшедших самки.
— А ты уверена, что у тебя нет слуха? — поморщилась с надеждой мадам Гасион и вцепилась в Кошин рукав. — Меня мучает то, что некому передать арфу. Арфа должна петь!