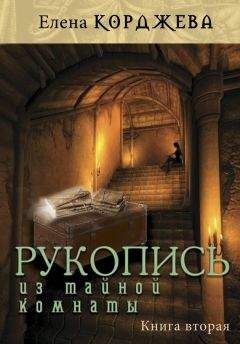Наконец кавалькада добрела до хутора.
Гиртс уступил раненому свою кровать и тот, намерзшийся и измученный, тут же забылся на ней тяжелым сном. Остальным было не до сна – за помощь партизанам радио обещало немедленный расстрел.
– Вы когда его заберете? – папу терзало беспокойство за безопасность семьи.
– Я – в отряд, – Вилнис машинально поднес руку к голове, на которой красовались здоровенная ссадина и густо-фиолетовая шишка. – Командиру доложу, он решает.
Это было понятно. Как понятно и то, что в ожидании решения семья находится в опасности. Но вопрос о том, чтобы оставить человека без помощи, даже не обсуждался. С тем и закрыли дверь за ушедшим. И снова легли спать.
Изрядно припозднившимся утром, допивая кофе, папа задумчиво смотрел на, беспробудно спавшего незваного гостя:
– Мать, он проснется, ты лубок не посмотришь? А то мы, сама знаешь, в темноте прилаживали.
– Посмотрю, конечно.
Звать врача – все понимали – значило, подписать себе смертный приговор, а руки Вии выходили не одну животину. В конце концов, нога и есть нога, что коровья, что человеческая: сложить, прочно привязать и – жди себе, пока зарастёт.
Но папа продолжал смотреть на чужака, а его большие мозолистые руки двигались в такт мыслям, помогая решить сложную задачу безопасности семьи. Приняв в итоге какое-то решение, он встал:
– Густа, я в твоей комнате поработаю немного.
Если папа брал инструмент, вопросы были лишними. Он знал, что делает. И до вечера в комнате Густы стояли стук и скрип, наполняя дом запахом свежей сосновой стружки.
Наконец дверь в комнату открылась, и взоры присутствующих обратились на усталого, но, кажется, довольного собой хозяина:
– Готово. Я тут подумал, пока тебя заберут, я семьей не могу рисковать.
Мужчина на постели кивнул. Риск действительно был велик.
– Но и выбросить тебя на мороз, тоже – не по-божески.
И с этим невозможно было спорить.
– Ты на одну ногу можешь встать?
«Гость» нерешительно завозился, пробуя сесть, но вмешалась Вия:
– Без костыля не удержится, слабый пока. А что надо?
– Ладно, подсобим, – папа отложил инструмент. – Переселять тебя будем.
Папа трудился не зря. Зайдя в комнату, Густа сразу увидела перемену – кроватка Эмилии переместилась к закрытому занавеской шкафу с потайной стеной. В остальном, если не считать ковра из свежих, вкусно пахнущих стружек, ничего не изменилось.
– Придется тебе, дочка, потерпеть, сама знаешь, твоя комната – самая безопасная.
И папа с гордостью мастера предъявил результат труда. Это было виртуозно. Потайной шкаф так и остался потайным. Но за занавеской появилось отдельное пространство, что-то вроде вертикального ящика, где мог поместиться стоящий человек, полностью укрытый от посторонних глаз. Кровать стояла рядом.
– Вот, смотри, – Арман, уже перемещенный на новое место и так во все глаза смотрел на хозяина, – здесь нажимаешь, он открывается. Тебе надо только там спрятаться. Внутри я полочку приладил, совсем сесть не получится, но полегче будет. Лучше уж на одной ноге постоять, чем с двумя – в могиле лежать.
Спорить не приходилось – Янка был полностью прав.
Дом потихоньку успокаивался.
Уложив Эмилию, Густа вышла на крыльцо. Ветер к ночи успокоился и снежная пыль, столь щедро рассыпаемая им по двору, улеглась ровным белым покровом, скрыв следы и заметя даже тропку к хлеву. Хутор вновь затерялся в лесу, укрывшись белым одеялом, слегка искрящимся под тусклым светом звездного неба. Густа смотрела на звезды, а звезды холодно и отстраненно смотрели на стоящую на крыльце Густу.
– Они не помогут.
Оказалось, что на крыльце она не одна. Папа набросил ей на плечи полушубок и в ответ на молчаливый вопрос пояснил:
– Звезды – как глаза ангелов. Они смотрят, но помочь не могут. Они так же светили и в Гефсиманском саду, когда Иуда творил свой поцелуй. Их удел – смотреть. А наше дело – не забывать, по чьему образу и подобию мы созданы.
Густа кивнула, соглашаясь. Удивительно, как они с папой всегда понимали друг друга без всяких лишних слов. Да и о чем говорить? Жизнь – странная штука. Иногда ты чувствуешь, как неведомые силы несут тебя, словно песчинку, сминая мечты и чаяния, сдирая заживо кожу, как ненужную более бумажную обертку, коричневую и шуршащую. И вместе с оберткой от тебя отрывается часть души и улетает прочь, унося с собой то, без чего, казалось бы, невозможно прожить более ни дня. Но ты остаешься, измученный и израненный, но живой. А звезды только смотрят на тебя, не в силах ни помочь, ни изменить то, что происходит.
Вот и сейчас они с папой стоят на крыльце своего дома, а вокруг них уже который год идет война. Они – семья и они вместе, но сколько же потерь пережил каждый. И эту лавину, обрушившуюся на ни в чем не повинные головы, невозможно остановить. Всё запуталось так, что как ни тяни этот свалявшийся клубок жизней, – ни за что не распутаешь, и не разрежешь, и не разрубишь… Петериса забрали на фронт. Может быть сейчас, в этот самый момент он где-то в бою убивает людей, которых радио называет врагами. Петерису эти люди ничего не сделали, и единственная причина, по которой он должен стрелять, это – безопасность семьи. Если он откажется воевать, они – Густа не находила лучшего определения для тех, кто пришел на эту землю и подмял её под себя, – «они» придут и расстреляют всю семью. Включая Эмилию, маленького Кристапа и даже Гиртса-Гершеля, которого она спасла прошлым летом в лесу. Петерис убивает, чтобы спасти. А они – папа, мама, Марта и она, Густа, и даже Гиртс-Гершель – спасают партизана, хотя знают, что за это их могут убить. Получается, что Петерис воюет зря. Он убивает тех, кто посылает сюда партизан. А они – спасли партизана. Но они с Петерисом – не враги. Густа отлично помнила, как ночью они добывали оружие, чтобы защитить семью. И прошлой ночью оружие пригодилось! Всё так запуталось…
– Я знаю, дочка, – папа словно читал её мысли. – Божий промысел не всегда пониманию доступен. Но как по мне, лучше уж нарушить законы человеческие, чем всю жизнь отводить глаза от стыда, даже если плата за это не тридцать серебреников, а – собственная жизнь.
Звезды смотрели прямо в душу, которая – Густа это знала точно – стоит куда больше любых серебреников. Папа был прав. Как прав был и Петерис. Как права Марта, бросившаяся в ночь спасать незнакомого ей человека от волков. И мама, без лишних слов бинтующая сломанную ногу.
Они правы, даже если это опасно и трудно.
«Брунгильде такой выбор и не снился, – вдруг усмехнулась про себя Густа. – Там как-то проще: вот враги и вот битва. Защищать, оказывается, сложнее, чем убивать. Похоже, дева-воительница могла уже у меня и поучиться».
С этой мыслью и закончился день.
Арман пробыл на хуторе почти месяц.
Несколько дней пролежав ничком, он потихоньку приспособился к наскоро сколоченным папой костылям и уже вполне сносно передвигался по дому, не рискуя, правда, высовываться на улицу.
Семья тоже привыкла к тому, что в их доме поселился пусть больной, но очень опасный чужак. Не то, чтобы Арман был опасен сам по себе, хотя в нем и ощущалась мощная внутренняя сила, тщательно скрываемая. Опасность караулила со всех сторон. Вдруг власти решат заглянуть на одинокий хутор, или, к примеру, партизанам покажется, что они, мирные люди, недостаточно хорошо смотрят за больным… Неопределённость пугала, но поскольку деваться было некуда, пришлось выработать свой ритуал жизни с партизаном.
Внешне почти ничего не изменилось. Ну, если не считать такой мелочи, как то, что Эмилия теперь спала в одной кровати с Густой. Как и раньше, шли по утрам кормить свиней и проведывать стельных коров, как и раньше, первый вставший топил большую, наполнявшую дом теплом печь. Как и раньше, мама готовила завтрак для всех домочадцев, чинно усаживавшихся вокруг большого семейного стола. Армана за стол не звали. Несколько дней Гиртс относил больному еду в постель, а затем, когда тот приспособился передвигаться на костылях, Вия стала оставлять ему еду на столе. Позавтракав, члены семьи расходились по своим домашним делам, а незваный гость в одиночестве сидел над своей тарелкой.
Конечно, игра в человека-невидимку создавала всего лишь иллюзию обычной жизни, но так было проще, и, похоже, это устраивало не только домашних, но и раненого. Да и в чем можно было кого упрекнуть? Кров, еду, тепло они предоставляли, как себе, так неужто нужно ещё и душу бередить, привыкая к опасному незнакомцу. Даже маленькая Эмилия каким-то чудом чувствовала, что к чужому дяде лучше не подходить и, обычно любопытная, вопросов не задавала.
Сам Арман на общении не настаивал, сидел себе у печки, вытянув под солнечный луч из окна больную ногу, и о чем-то думал. Правда, время от времени Густа ловила на себе его цепкий взгляд, но, к счастью, тот недолго на ней задерживался.
К концу февраля Вия решила, что лубок можно снимать. За ответственным моментом наблюдало много глаз. Но всё обошлось. Морщась от боли и прихрамывая, опираясь на костыль, но Арман шёл по комнате, наступая на ногу. «Слава Богу, скоро уйдёт», – думала Густа. Да и не она одна надеялась, что так и случится.