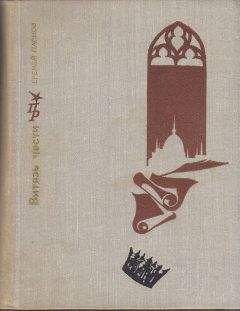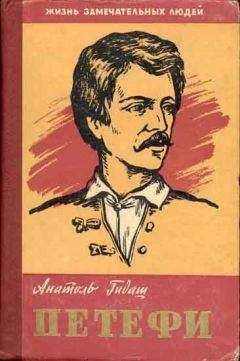— Читать.
— Куда?
— Я каждый день в течение часа читаю вслух одному слепому старому господину.
— Да?
— Да.
Красивая белокурая дама с удивлением посмотрела на мальчика.
— А как же… Деньги он платит… или… — спросила она нерешительно.
— Конечно платит!.. Десять крейцеров!
— В месяц?
— В час.
— Вот как? В час…
Она с каким-то испугом посмотрела на маленького мальчика.
Этого еще никто не знал, он и в классе не посмел никому сказать, так что приятель его тоже был поражен.
— Слышишь, Орци? — проговорила мама и засмеялась, но по щеке ее катилась слеза.
Теперь маленький гимназист понимал, что на этот раз над ним не смеялись, и, дойдя до театра, все еще не переставал радоваться, что так удивил их.
Он снова вспомнил, что так и не поцеловал руку матери Орци, не посмел. Тете Терек и тете Вашархеи он всегда целовал руки, но такой благородной даме просто не отважился… Миши покраснел: что она теперь о нем подумает?
До пяти часов ему пришлось еще долго слоняться по улицам, зато многое удалось продумать. Но вдруг ему вспомнилась эта светловолосая сероглазая девочка, и он, как заяц, пустился бежать, сам не зная куда.
Чем дальше Миши уходил от дома Орци, тем сильнее росло в нем какое-то беспокойство. Когда он подошел к ратуше, лицо его так пылало, словно он сидел у огня. Он чувствовал себя униженным, маленьким, испытывал жгучий стыд. Что за глупость — не поцеловать руку… уйти… И еще эта светловолосая… Сейчас там все говорят о нем… Рассказывают ей, как он вошел и вместо того, чтобы поздороваться, стоял, прислонившись к косяку, и звал: «Орци… Орци…» Да еще сказал, что Орци поколотили…
Ущемленное самолюбие Миши защищал теперь тем, что свою обиду вымещал на приятеле: «Ну и хвастун!.. Подумаешь, его комната!.. У них есть Петёфи!..» Это ему особенно не нравилось: Орци так хвастал, что у них, мол, Петёфи, да еще полное собрание сочинений, будто у других нет…
Но это было только злорадство, от которого не проходила краска стыда, ведь сейчас они говорят о нем, и Орци высмеивает его перед девочкой. А рассмешить он умеет! Как смешно он подражает учителю пения, когда тот, размахивая рукой в белой перчатке, в такт приговаривает: «Пвошу вас, пвошу вас…»
Миши мчался сам не зная куда: над ним сейчас смеются, он удрал от девчонок, у него нет куницы или как ее там называл Орци…
Сейчас только четыре часа, к старому господину идти рано. Спокойно можно было остаться у Орци еще на три четверти часа — а Орци теперь все про него расскажет… А когда она взглянула на него, глаза у нее были такие серые… Но почему такие большие?
Он снова бросился бежать и всякий раз, когда вспоминал о девочке, мчался словно сумасшедший. И только когда у него окончательно перехватило дыхание, опомнился и начал размышлять спокойнее.
— Ты куда летишь? — окликнул его вдруг Ланг.
Миши страшно смутился и, пробежав еще несколько шагов, остановился: откуда здесь Ланг?
— К господину Дерешу, — выпалил он.
— К Дерешу?
— Да.
Они глядели друг другу в глаза: Ланг всегда так смотрел, будто хотел дать пощечину, но на этот раз и Миши ответил таким же взглядом.
Ланг внимательно его оглядел — костюм, ботинки, шляпу, казалось, хотел спросить, зачем ему к Дерешу, но передумал. Он был скверным учеником, и разговоры о преподавателях не доставляли ему удовольствия.
Наконец Ланг кивнул — все, мол, в порядке, — и они разошлись.
И чего привязался к нему этот Ланг? Миши никогда с ним не разговаривал, даже словом не обмолвился, а вот как раз сегодня… Надо было спросить его, зачем он тогда избил Орци? Ну и драка была… Орци здорово досталось, и напрасно он говорит теперь матери, что это была куча мала, — так обманывать свою мать! А ей, бедной, откуда знать, как ее сын дрался с Лангом, и она ему верит, ведь мать легко обмануть…
Глаза Миши наполнились слезами, и он вынул платок. Он как раз проходил мимо собора. Быстро забежав в сад, он сел на чугунную скамью под плакучей ивой и горько разрыдался.
Плакал долго, слезы так и лились у него из глаз. Потом сел на скамейку спиной к коллегии, чтобы никто его не узнал, и так хорошо, так сладко выплакался, что размяк, словно масло. Его постигло столько бед, что давно надо было выплакаться, но негде здесь ни поплакать, ни просто побыть одному, вечно ты на глазах. Между тем часы били уже два раза, и Миши понял, что скоро без четверти пять…
Ему казалось, что время движется еле-еле, он вытер глаза мокрым платком и медленно побрел из сада.
Было холодно, и он замерз. Уже стемнело, зажгли газовые фонари, в которых, словно бабочки, метались тоненькие огоньки.
Пока Миши добрел до квартиры старого господина, он так промерз, что у него стучали зубы; читать он не мог, язык заплетался, и он снова расплакался.
— Что-нибудь случилось? — спросил господин Пошалаки.
— Ничего.
Старый господин не стал больше расспрашивать. Ничего так ничего… Но читать Миши все-таки больше не смог, пришлось сказать:
— Сегодня я был в гостях… в семье своего одноклассника…
Старый господин молчал.
— И там… там…
— Обидели?
— Нет, не обидели, но я… Они такие большие господа…
— Господа?! Да кто же они такие?
— Они-то хорошие… добрые, а вот я… Это Орци, они живут около театра, господин Орци — председатель…
Старик долго молчал, затем осторожно спросил:
— А ваш отец?.. Кто он?
— Плотник.
— Та-ак… — Старик подумал немного и добавил: — Хорошая профессия…
Миши обрадовался. Хорошая профессия!
— А дом у вас есть?
— Маленький.
— А корова?
— Коровы нет.
— И свиньи нет?
— У нас поросенок.
Старый господин помолчал.
— Сколько у вас в семье детей? Ты один? — спросил он, вдруг перейдя на «ты».
Миши вспыхнул: он очень гордился тем, что господин Пошалаки относился к нему серьезно, как ко взрослому, и всегда обращался на «вы».
— Пятеро.
— Пятеро?.. А сколько девочек, мальчиков?
— Все мальчики.
— Вот это прекрасно!.. Так твой отец большой человек: с пятью сыновьями можно всю страну перевернуть.
Миши улыбнулся сквозь слезы: он словно слышал слова отца; но зачем все-таки он говорит ему «ты»?.. Как он смеет?.. Теперь всегда так будет? Тогда он больше сюда не придет…
— Раньше, когда мы жили в другой деревне, у нас был большой каменный дом, много коров, целое стадо, и один раз — я тогда был совсем маленьким — отец взял меня с собой на гумно и посадил верхом на бычка, а я сидел и приговаривал: «Но, но…» Тогда у нас даже была паровая молотилка, но она взорвалась, и мы переехали, а папа стал плотником… — Миши чувствовал, что сказать все это было необходимо. — Я самый старший из братьев, еще у меня есть дядя, мамин брат… Он преподает в Пожони… Ему мой отец помог выучиться.
Наступила тишина. Миши хотел рассказать еще, но постеснялся.
Наконец старый господин сказал:
— Ну, читайте дальше.
Мальчик улыбнулся, сердце его радостно забилось: господин Пошалаки опять перешел на «вы». «Понял теперь, — подумал Миши, — что я вовсе не тот, с кем можно на „ты“…» Миши уже знал: если хочешь, чтобы люди тебя уважали, никогда никому не говори, что твой отец плотник… Хорошо еще, что мать Орци не стала его расспрашивать, а то он и ей бы сказал… А ведь до сих пор он так гордился, что его отец плотник: в деревне они со всеми в хороших отношениях, даже с господами. Миши и в школу ходил одетым, как господский сынок, а его отец и с попом, и с учителем разговаривал на равных: «Ну что, ваше преподобие?..» Или: «Как дела, господин учитель?» Так он говорил со всеми… А то и исправнику скажет: «Ну что, ваше благородие, растут усы-то?..» Или: «Что это вы напялили мужицкие штаны, на скотный двор собрались, что ли?» Но то, что у них был каменный дом, — это неправда; однажды он слышал, как одноклассник Варга из Каллошемьени говорил, что у них каменный дом, и Миши это очень понравилось. Их дом тоже был совсем неплохой, но не каменный…
Ну, не беда: какая разница этому слепому старику, из глины у них дом или еще из чего? Каменный — вот и все.
Миши быстро читал газету, теперь уже легко и смело, и до шести часов ни разу не остановился, молотил как мельница строчку за строчкой.
Когда часы начали бить, старый господин сказал:
— Оставим что-нибудь и на завтра.
Но Миши, понимая, что сегодня по его вине прочитано меньше, чем обычно, сказал:
— Разрешите, я еще почитаю…
— Не стоит, а то в столовую опоздаете.
— Нет-нет, господин Пошалаки, у нас только в четверть седьмого звонят.
— Тогда поторопитесь, и так вы уже задержались на пять минут.
— Нет-нет, господин Пошалаки, всего-то только на полминуты.
Но старик не хотел больше слушать и беспокойно задвигался в кресле: