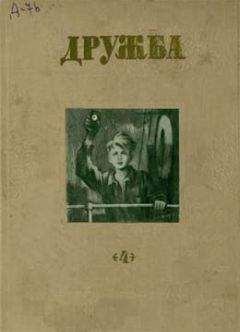Через неделю Бабушкин снова пришел, нагруженный бутылками, и опять пустыми.
«Где это он вино лакает? — тревожилась уже успевшая привязаться к Бабушкину хозяйка. — Хоть бы дома выпил, чинно, спокойно — и в постель. А тут хлещет неизвестно где.»
«И какой крепкий мужик, — думала она, оглядывая три бутылки, торчащие из карманов квартиранта. — Столько выпил — и ни в одном глазу. Даже не пошатнется. И говорит всё к делу..»
Комната Ивана Васильевича постепенно стала напоминать кабак. В ней попрежнему было чисто и аккуратно, да вот беда: повсюду — на подоконнике, под кроватью, на шкафу и даже на книжной полке — стояли пустые пивные и водочные бутылки.
Хозяйке это, конечно, не нравилось, и однажды в отсутствие Ивана Васильевича она собрала все бутылки в мешок и выставила в сени.
Бабушкин вернулся в полночь; из кармана у него опять торчало горлышко бутылки. Он удивленно оглядел свою прибранную комнату и спросил:
— А бутылки где?
— Убрала, — сердито ответила хозяйка. — Совсем уже стала комната, как трактир..
— А что — похоже? — неожиданно засмеявшись, спросил Бабушкин. — Напоминает трактир?
— Еще бы не похоже, — нахмурилась хозяйка. — И не стыдно тебе, сынок, хлестать эту водку проклятую? — принялась она урезонивать постояльца.
Но Бабушкин лишь смеялся и этим еще больше сердил хозяйку.
Потом он вынул из кармана и поставил на подоконник, на самое видное место, пустую бутылку, сходил в сени, принес мешок и снова расставил все бутылки на шкафу, под кроватью, на книжной полке.
— Садитесь, мамаша, — пригласил он. — Поговорим.
Хозяйка села.
— Вы ведь знаете: я — непьющий! — сказал Бабушкин.
Хозяйка усмехнулась и многозначительно обвела глазами шеренги бутылок.
— А бутылки эти — военная хитрость, — продолжал Бабушкин. — Возвращаюсь я, к примеру, с тайного собрания. Перед выходом беру у хозяина две-три пустые бутылочки; мимо любого околоточного или пристава иду, он и носом не ведет. Раз бутылки — значит, «благонадежный». А для пущей убедительности — куплетики какие-нибудь затяну пьяным голосом… Понятно?
— Понятно, понятно, — закивала головой хозяйка. — Но только зачем тебе, сынок, всю эту пакость в комнате хранить?
— А это опять-таки военная хитрость. Недавно забавный случай произошел. Поехал один из наших к знакомым за Днепр, на завод Франко-Русского товарищества. Знаете? Тут, недалеко… Ну и захватил с собой несколько нелегальных брошюрок для друзей. Приехал, а там его задержали и нашли брошюрки. Он, конечно, отпирается: это, мол, не мои. Нашел на станции. Ну, да в полиции народ тертый. Не верят, конечно. Сей же час по телеграфу сообщили в Екатеринослав, и сразу приказ — немедля обыскать квартиру. Пришли туда жандармы, да кроме пивных бутылок ничего не обнаружили. «Пьянчуги политикой не интересуются, — решил жандармский подполковник. — У них другое на уме…»
Товарища сразу же и освободили. Ясно?
Бабушкин засмеялся. Улыбнулась и хозяйка.
— Вот и решил я сделать выводы. Это, мамаша, маскировка, а по-нашему, — конспирация. Понятно?
— Понятно, соколик, — ответила хозяйка. — Только зачем же у тебя эта… как бишь… конспирация… пылью заросла? — она провела пальцем по бутылке — и на стекле остался след. — Непорядок!
Хозяйка взяла влажную тряпку и обтерла все бутылки. Потом каждые два-три дня она не забывала смахивать пыль с «конспирации».
ПОБЕГ
Во Владимирской тюрьме, куда Бабушкина перевели из Покрова, «товарищ Богдан» попрежнему скрывал свою фамилию. В тюремных списках, в протоколах допросов он так и значился: Неизвестный.
Владимирские жандармы объявили розыск: послали во все губернские жандармские управления Российской империи фотокарточки таинственного арестанта и подробные описания его примет.
Начальник Екатеринославской охранки, разорвав конверт с надписью «совершенно конфиденциально» и взглянув на фотографию, чуть не подпрыгнул на стуле от радости. Так вот где беглец! А они-то искали его и в Смоленске, и в Питере, и в Москве.
Тотчас была отстукана телеграмма: «Неизвестный — это особо важный государственный преступник Бабушкин».
В специальном арестантском вагоне, под усиленной охраной Бабушкина немедленно переправили в Екатеринослав — по «месту надзора» — туда, откуда два года назад он совершил побег.
Начальник Екатеринославского жандармского управления, ротмистр Кременецкий, польский дворянин с холеным, красивым лицом, шутливо воскликнул:
— А, снова свиделись! Понравилось на царских хлебах жить?!
Потом вдруг, стукнув кулаком по столу, остервенело заорал:
— Теперь ты, сволочь, от меня не отвертишься! В Сибирь закатаю! Агитируй там волков да медведей!
Бабушкина поместили в общую камеру, где сидело восемнадцать политических заключенных.
И вот радость — среди узников Иван Васильевич увидел огромного плотного мужчину с могучими плечами и широкой — веером — бородой. Хотя глаза арестанта были скрыты темными стеклами очков, Бабушкин сразу узнал его:
— Василий Андреевич!
Да, это был Шелгунов, его старый друг еще по Питеру, участник ленинского кружка.
Они обнялись, расцеловались.
— Что у тебя с глазами? — тревожно спросил Бабушкин, подсев на койку к Шелгунову и глядя на темные стекла его очков.
— Плохо, Ваня, — ответил тот. — Слепну…
— А врачи?…
— Врачи говорят, — лечиться надо. Долго, систематически: год, а может и два — в больницах, на курортах. Ну, а как подпольщику лечиться? — Шелгунов усмехнулся. — Из тюрьмы да в ссылку, из ссылки — в тюрьму… В тюрьме, правда, тоже строгий режим, питание по часам — три раза в день, и спать рано укладывают — а всё-таки тюрьма и курорт маленько отличаются друг от друга!
Заметив, что Бабушкин погрустнел, Шелгунов хлопнул его по колену и бодро сказал:
— А в общем унывать не стоит! Вот грянет революция — потом полечимся.[2]
Бабушкин и Шелгунов наперебой расспрашивали друг друга о партийных делах, о товарищах по Питеру, о ссылке.
Бабушкин не видел Василия Андреевича почти семь лет, с 1895 года, когда Шелгунова арестовали вместе с Лениным в морозную декабрьскую ночь. Оказалось, что Шелгунов 15 месяцев просидел в одиночной камере петербургской «предварилки», там же, где Бабушкин. Потом Василий Андреевич был выслан на север, в Архангельскую губернию. После ссылки в столицу не пустили, с 1900 года он стал жить под «гласным надзором» здесь, в Екатеринославе…
— В Екатеринославе? — перебил Бабушкин. — А я как раз незадолго до того уехал отсюда!..
— Да, я знаю, — улыбнулся Шелгунов. — Меня тут все так и называли — «заместитель Трамвайного».
Шелгунов подробно рассказывал о екатеринославских делах. Он был членом городского комитета партии, знал всех, и каждое слово Василия Андреевича живо напоминало Бабушкину его недавнюю работу здесь.
— А как ты в тюрьме очутился? — спросил Иван Васильевич.
— Мы недавно провели крупную стачку, — ответил Шелгунов. — Жандармы рассвирепели, весь комитет бросили за решетку. И меня…
…В тюрьме медленно тянулись день за днем. Друзья подолгу шопотом беседовали. Будто чуяли, — скоро придется расстаться.
И вправду, вскоре «особо важного государственного преступника» Бабушкина перевели в четвертый полицейский участок.
Массивная железная дверь с лязгом захлопнулась за ним. Бабушкин увидел, что в новой камере он не один. На нарах сидел худощавый, болезненный на вид юноша с огромной лохматой шевелюрой и свалявшейся в ком бородой.
Парень раскачивался из стороны в сторону, и губы его шевелились, словно он шептал какие-то заклинания. Рядом валялась его синяя студенческая тужурка.
На Бабушкина он не обратил никакого внимания, даже не поднял головы.
В камере было грязно, пол не подметен, на нарах разбросаны дырявые, скомканные носки, носовые платки, одеяло сползло на пол.
Бабушкин, ни слова не говоря, снял пиджак, попросил у надзирателя ведро воды и тряпку и стал мыть щербатый каменный пол.
Студент поднял взлохмаченную голову, несколько минут удивленно наблюдал за Бабушкиным, потом ехидно спросил:
— Выслужиться хотите? Заработать благодарность от начальника тюрьмы?
— Жить надо по-человечески! Всегда и везде, — спокойно ответил Иван Васильевич, продолжая мыть пол.
Два дня заключенные почти не говорили друг с другом. Бабушкин недоверчиво приглядывался к лохматому студенту. Не шпик ли, нарочно подсунутый охранкой к нему в камеру?
— Кто вы? — однажды спросил Бабушкин студента. — За что сидите?
— Исай Горовиц, — представился студент, шутливо щелкнув каблуками. — Задержан за участие в манифестации.
— Горовиц? — недоверчиво переспросил Бабушкин. — А у вас сестры нет?