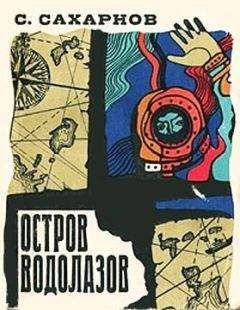— Дальше текст обрывается, — сказал, передавая тетрадь Василию Степановичу, Аркадий. — Есть варианты окончания, но они все густо замараны чернилами. Однако и без этого ясно, в чем состояло открытие Соболевского.
— Так вот почему он так стремился вернуть утраченный пенал, — сказал я. — В тетради был труд всей его жизни.
— И все-таки я не нахожу ему оправдания, — сухо сказал Василий Степанович.
— Точно, — сказал Боб.
Я взял из рук Аркадия тетрадь. Небольшие листы ее, в голубую линейку, были густо исписаны. Кое-где автор начинал и бросал рисовать чертежи. В одном из них я узнал Берингово море. Около мыса Дежнева стоял крестик, второй был поставлен ниже устья Анадыря. Это Соболевский отметил предполагаемые места гибели кочей…
— Упорный был старик, — сказал Василий Степанович. Он забыл, что Соболевский в момент написания статьи был одного возраста с ним. — Ну что ж, давайте тетрадь. Мне — ее хранить.
Слухи о результатах нашей экспедиции каким-то образом распространились по Кунаширу.
Мы сидели в номере гостиницы и обсуждали с Василием Степановичем его дальнейшие планы, когда, дверь распахнулась и в комнату вошел Николай с каким-то человеком в сверкающей кожаной куртке.
— Вот, — сказал Николай. — Привел к вам. Корреспондент центральной газеты. Интересуется;
— Краевой, — поправил его вошедший. — Рогач. — Он улыбнулся и по очереди потряс нам руки. — Езжу по островам, пишу. Не встречали корреспонденций — А. Рогулин? Это я.
— Псевдоним? — спросил я.
— Конечно. — Вошедший засмеялся. — Так если вы разрешите…
Он сел на табурет, вытащил толстый блокнот, авторучку и стал быстро задавать вопросы.
Когда страниц десять было исписано, он сказал:
— А знаете что, получается неудобно: отбиваю хлеб. Ведь вы — ученый? — Аркадий кивнул. — Сделаем так. Я дам корреспонденцию за тремя подписями: своей, вашей и кого-нибудь из товарищей.
Он показал на меня и на Николая.
— Я тут ни при чем, — сказал Николай.
— Как хотите. А три — не много? — удивился Аркадий.
— Это уж мое дело. В редакции я все объясню… Итак, как я понял, в поднятом вами пенале были: листовка революционного подполья, приказ Уборевича, материалы первых плаваний на Тихом океане… Документы штурмового двадцать второго года, перемешанные со старыми картами. Блеск!
— Бумаги укладывали второпях, — сказал Аркадий, но не стал объяснять, как попали листовки в пенал. — Все, что связано с «Мининым», интересно. Вам нужна краткая информация?
Рогач улыбнулся.
— Как знать.
Мы замолчали.
— Так я пошел, — сказал Рогач. — Сегодня же сообщу по телеграфу. В редакции за тему ухватятся. Вот увидите — на той неделе пойдет в печать.
Он помахал рукой и быстро вышел.
— Между прочим, — сказал Василий Степанович, — мы забыли про сарай с костями. Помните, я обещал их вам показать? Надо сходить.
— Тогда сейчас, — сказал Аркадий. — Немедленно. Много их там?
— Хватит.
Василий Степанович провел нас в сухой темный сарай за музеем, где среди мётел и пустых ящиков лежали сваленные в две кучи кости — части каких-то скелетов.
— Это кашалот, — сказал он. — Я его у китобоев взял, когда завод на Шикотане закрывали… А там, в углу, вроде бы косатка. Нашли в этом же сарае. Японцы с острова уезжали, хотели ее увезти. Я до выяснения придержал. Кое-что они даже запаковали!
— Кашалот, — сказал Аркадий и тронул носком башмака огромный, похожий на пень позвонок. — Где, говорите, косатка?
Василий Степанович не успел ответить.
— Товарищ Лещенко! Товарищ Лещенко! — послышался голос жены директора. — Вас вызывают на почту!
— Что такое?
Аркадий ушел, попросив меня сфотографировать кости.
Я открыл пошире дверь, Василий Степанович выбил фанеру, которой было закрыто окно, и мы стали, фотографировать. Самые причудливые части мы подтаскивали к свету, и я, присев на корточки, щелкал, снимая одну кость за другой.
— Между прочим, этот скелет, — сказал Василий Степанович про косатку, — один раз уже собирали. Туристы-любители. Все сложили, и еще лишние косточки остались.
Я снял и эти — лишние.
Аркадия я встретил уже на обратном пути. Пришла срочная телеграмма. Ленинград настаивал на выезде.
Самолет уходил в полдень. Мы долго, ждали на аэродроме. Когда наконец из низенького черного щитового домика-аэровокзала вышла девушка и объявила, что самолет летит, серебристая птица уже огибала поле.
Мы попрощались с Василием Степановичем, забрались в пустой гулкий фюзеляж и, опасливо косясь на сложенные в углу оранжевые спасательные жилеты, расселись на откидных металлических лавках, прикрепленных к бортам самолета.
Взлетели. Зеленый горбатый Кунашир мохнатым чудовищем вытянулся под нами.
В самолете было холодно, продувало. Зябко ежась, я сидел, смотрел себе под ноги и с удивлением думал, что за эти два месяца написал в Ленинград только одно письмо.
Женщина напротив меня распаковала рюкзак и стала есть, расставив ноги, доставая ножом из консервной банки испачканные алой томатной жижей куски рыбы.
Дверь, ведущая в кабину летчиков, открылась, человек в форме просунул в салон голову и сказал:
— Тятя!
Аркадий толкнул меня в бок.
Я прижался к желтоватому стеклу, скосил глаза и захлебнулся восторгом. Прямо на самолет надвигался огромный кратер. Лиловые и оранжевые потеки покрывали его края. Посредине, поднимаясь со дна, высилась вторая вершина. У нее было свое жерло. Черное отверстие, похожее на огромную опаленную огнем газовую горелку, вело вниз, в преисподнюю.
На дне кольцевого кратера блестело безжизненное черное озеро. В мертвой воде отражался внутренний конус.
Вулкан уже проплывал под нами.
Поднятые криком Аркадия, пассажиры облепили окна.
Впереди серебрилось Охотское море. Машина шла дальше на северо-восток к Итурупу. Белая облачная пелена дрожала над далеким островом.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ,
в которой есть письмо из Алма-Аты и разговор о судьбе морского млекопитающего
Мы прилетели в Ленинград солнечным холодным днем. Желто-красные гатчинские аллеи пронеслись под крылом самолета. Жухлая болотная трава стремительно поднялась и превратилась в одноцветный дрожащий ковер. Движение ковра замедлилось, ноющий звук моторов оборвался и перешел в добродушный гул. Самолет запрыгал по бетонным плитам. Мы спустились с трапа и направились искать такси.
Дома у Аркадия на столике перед дверью лежало письмо.
Аркадий открыл ключом дверь — жалобно пропели петли, — мы вошли в комнату.
Смахнув со стола толстый слой пыли, Аркадий вскрыл конверт. Он был опущен в Алма-Ате.
«Уважаемый товарищ Лещенко!
Вам пишет дочь Соболевской Нины Михайловны — Вера Вениаминовна. С глубоким прискорбием должна сообщить, что моя мать умерла год тому назад от воспаления легких, болезни в наших краях редкой и потому вдвойне жестокой.
Из Вашего письма я поняла, что вопросы, которые Вы хотели бы ей задать, касаются моего отца Соболевского Вениамина Павловича. Именно он исполнял обязанности хранителя частного музея в городе Владивостоке в годы революции. У него был брат Константин Павлович, офицер белой армии, исчезнувший без вести, — вероятно, уехавший при эвакуации японцев.
Я не знала отца — родилась в 1922 году в январе месяце, в Петрограде, куда мать уехала к родственникам, незадолго перед событиями на Дальнем Востоке.
Отец погиб в поселке Вторая речка под Владивостоком в том же 1922 году вследствие острого кишечного заболевания, ослабленный потерей крови от раны, полученной при неизвестных нам обстоятельствах. На могиле его я была в 1939 году.
Выполняя Вашу просьбу, я перебрала письма отца, оставшиеся после смерти матери, и нашла среди них одно, которое, может быть, заинтересует Вас. Никаких других вещей или документов отца у нас не сохранилось. К сожалению, это все, чем могу помочь.
С искренним уважением Соболевская В.».
В конверт было вложено еще одно письмо. Пожелтевшие страницы, выцветшие чернила.
Аркадий бережно развернул его.
«Дорогой друг!
Пишу тебе, вероятно, в самое тревожное время нашей жизни. В этом году рано кончились туманы, но для меня прояснение остается по-прежнему далеким и желанным. У вас в Петрограде уже все спокойно, а наш многострадальный Восток до сих пор терзаем распрями и междоусобицами. На рейде, против моего окна, стоят борт о борт японский и американский крейсеры, и никто не может поручиться, когда и в кого, начнут стрелять их пушки. Ходят слухи о близкой эвакуации, но кто их знает, этих наших так называемых союзников. Нет более ранимой науки, согласись, чем наша с тобой — история, и нет ценностей, более легко разрушаемых и похищаемых, чем ценности исторические. Вот почему предстоящие перемены, а они, конечно, наступят, беспокоят меня. Уже была попытка конфисковать и отправить морем в Нагасаки бесценные коллекции минералов. Я так и не понял, что за люди приходили тогда. Двое из них были в форме японских офицеров, двое в штатском — говорили по-французски. Однако японский комендант, к которому я обратился на другой день, сам был очень удивлен и выразил предположение, что это действовали частные лица.