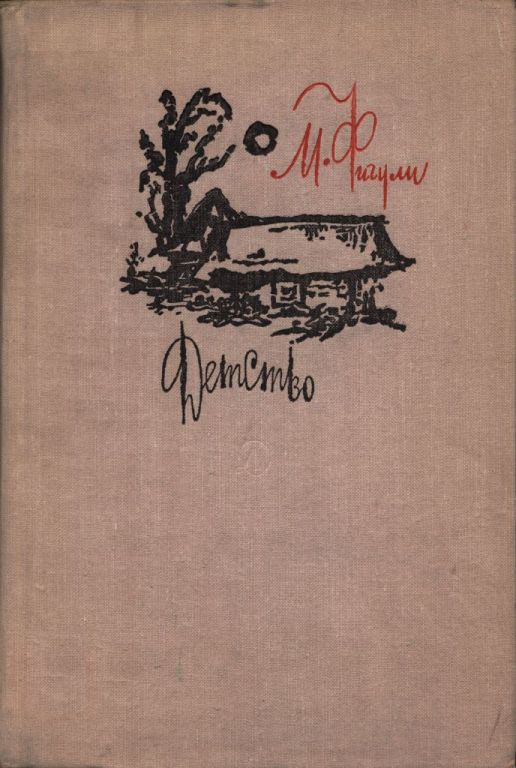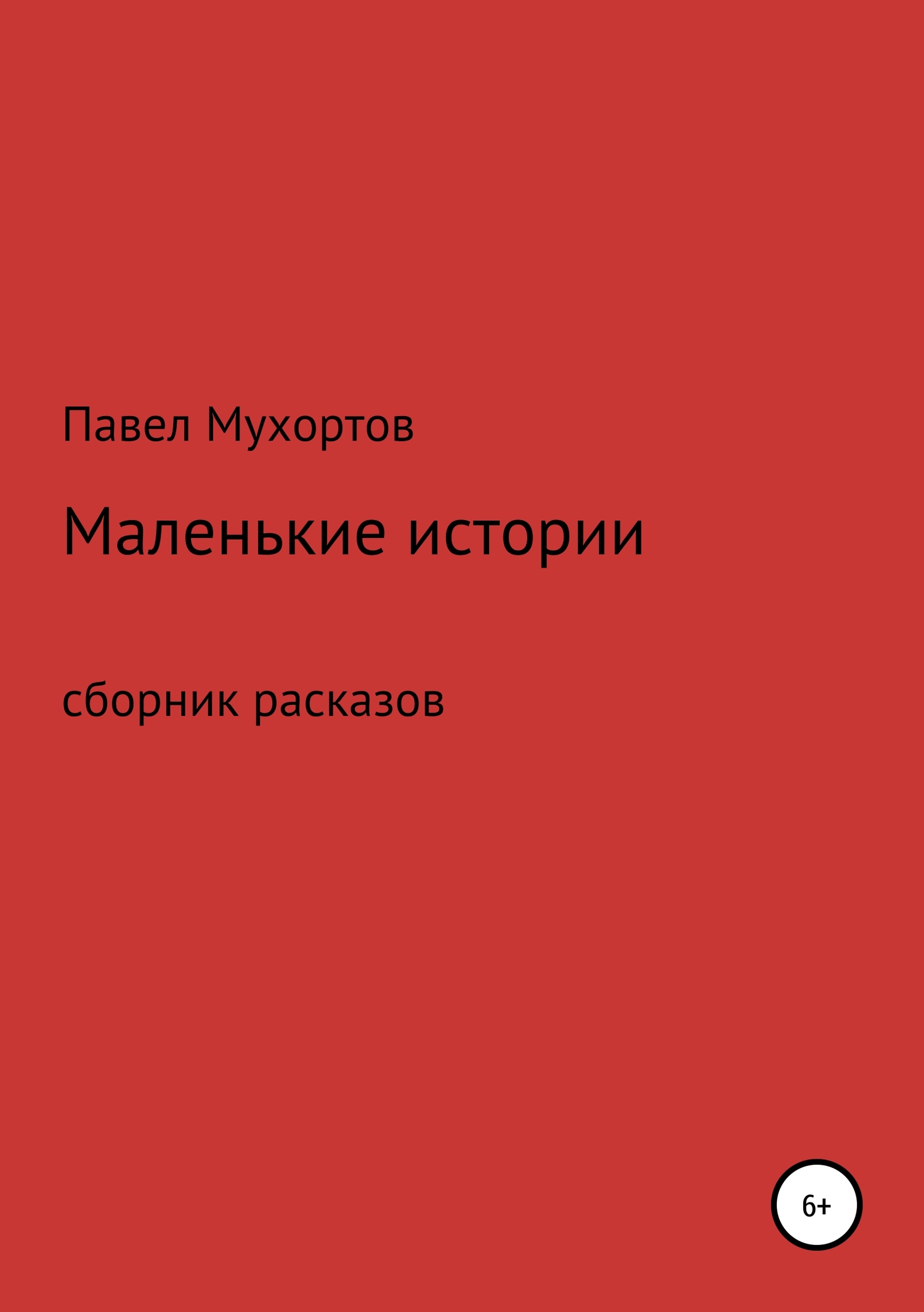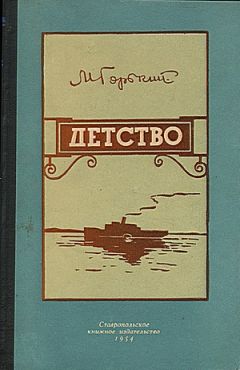я бы поседела от страха, — признаюсь я Вероне.
— Уж бы и поседела! У тебя еще и волосенки-то путем не выросли, а ты уж «поседела бы». Не бойся, нынче волков поблизости нету. Только в лесах еще охотникам попадаются.
— Ну я пошла, тетушка Верона, — подымаясь, говорю я.
— Уж другой раз я не стану тебе рассказывать такое страшное.
Крадучись, пробираюсь к двери. А что, если меня волк схватит прямо с пристенья, как однажды, в пору бабушкиного детства, он схватил в верхнем конце деревни ребенка, которого мать в наказание выставила за дверь?
Я набираюсь смелости, нажимаю на щеколду и отворяю дверь. Сразу же чудится мне золотой чуб Милана и его западающая в душу улыбка. Это придает мне силы, и я смелее двигаюсь дальше: ведь Милан защитил бы меня от волка.
Только я вышла за дверь, слышу удары барабана. Образ Милана мгновенно рассеивается. Это Шимон Яворка выстукивает барабанную дробь. Когда она затихает, до Груника долетает его голос, но слов не разобрать. И меня и тетку Верону это тревожит. Уже у нас, у детей, сложилось определенное отношение к сельскому барабану.
— Помянешь черта, он тут как тут, — поморщилась старушка. — Какую еще муку людям придумали?
— Пойду погляжу, тетушка Верона, — предлагаю я.
— Обожди, вместе пойдем.
Пока Верона надевала теплую жакетку, пожалованную ей господами, приехавшими прошлым летом из Пешта [23] проведать нежилой замок, я уже припустилась вниз по Грунику домой.
Прихрамывая, чуть позже доковыляла к нам и тетка Верона. В это время Шимон Яворка барабанил уже в верхнем конце деревни.
В горнице с мамой сидела тетка Ондрушиха. Ондруши закололи свинью, и она принесла нам супу из требухи. Тетка всегда о нас помнила, это ей и самой доставляло радость — ведь у нее своих детей не было. Она тут же привлекла меня к себе и вытащила из кармана юбки гостинец. Это были четыре белые леденцовые палочки в красных и зеленых, точно нити, полосках. Она велела мне разделить их между всеми. А купила она, мол, эти конфеты у корчмаря, он как раз привез их из города.
Мама меж тем пересказывала приказ, обнародованный барабанщиком. В селе якобы совсем не наготовлено дров, раз все мужики на войне, и люди сами должны отапливать школу. А количество дров определялось по числу детей школьного возраста в каждом хозяйстве.
— Вот уж несправедливо — по числу детей, — дивилась мама. — Надо бы определять по хозяйствам, ведь почти весь лес у богатых. У них и батраки есть, значит, и свезти дрова им не трудно. Ничего б не случилось, если бы они и школу отапливали. Ведь всюду в богатых домах по одному ребенку, редко по двое. А у бедных детей, что апостолов. Ну как же им управиться? Кто только такое придумал?
— Не иначе, как староста придумал для нас такое мученье, — говорит тетка Верона.
— Да что о том толковать, ясно, как дважды два четыре, — подтверждает Ондрушиха, с удовольствием глядя, как я облизываю конфету. — Есть кому посоветовать, ведь Ливорова сестра — жена у него. Они с моим стариком одного поля ягоды. Мой тоже готов по три шкуры с бедняка драть, уж такой бесов характер. Знали бы вы, какая жизнь у меня с ним. Столько муки терплю, на целую бы деревню хватило. Лучше бы мать петлю мне на шею накинула, чем меня за него отдала. С последним бы нищим поменялась, лишь бы от этого мучительства избавиться. Какой мне прок от богатства? Мытарит меня с утра до ночи, как мытарят народ староста или писарь.
В самом деле, новая беда придавила людей. Дров было мало, хотя, казалось, леса кругом видимо-невидимо. Но кому было деревья рубить, когда мужской помощи нет, кому дрова свозить, когда лошадей раз-два и обчелся!
У нас дров было всего ничего, мама даже тревожилась, что мы до весны не дотянем. Каждый год спасались мы шишками. Осенью набивали ими мешки и свозили с Матько в овчарню. Это было гораздо легче для женщин и детей, чем пилить и рубить елки.
Да и не одни мы так поступали, иной раз по осени людей в лесах тьма-тьмущая. Пожалуй, ни одной шишки под деревьями не оставалось.
Топить школу начали с нижнего конца деревни. Каждый дом по очереди. Сколько в доме детей, столько дней подряд и топили. Люди ворчали, сердились, проклинали все на свете. Но никакого толку от этого не было: староста отговаривался, кивая на писаря, писарь — на комитатские власти. Власти посулили дело уладить, но, пока улаживали, зима миновала. А в те времена люди привыкли повиноваться всему, что было предписано на бумаге.
Бывали дни, когда мы в школе совсем замерзали. Бедным топить было нечем. Со слезами на глазах подкладывали они каждую чурочку в школьную печь — ведь у них только и было, что собирали они летом на межах либо тайком уносили из чужого леса. А богатые иногда не топили просто из жадности.
Пришел и наш черед. Мы отапливали школу три дня подряд, потому как в школу ходило нас трое. Дрова на глазах стали таять, и, чтобы как-то продержаться до весны, дома пришлось топить очень-очень редко. Такая уж была у нас тогда жизнь: в постоянных мечтах о еде и тепле. А чтобы хоть на время отвлечь нас от этого, мама рассказывала нам сказки. Бывало, в горнице стоит такая стынь, что вокруг маминых губ белело дыхание.
Обычно тетка Верона вместе с почтой приносила и ключ от школы тем, чья очередь была топить на следующий день.
— А кто же от вас пойдет? — спросила она в тот день, когда принесла нам ключ.
— Я и Людка, — ответила я, зная наперед, какая это мука для нас. — Бетка с утра помогает маме.
— Да ты корзину-то дотянешь?
Я киваю, а про себя знаю, как тяжела эта обязанность. И вот рано утром — еще не рассвело — тащим мы с Людкой корзину, полную шишек, щепок и спутанного хворосту.
Снега видимо-невидимо, мы едва перелезаем через сугробы, а на улочке за корчмой увязаем по пояс. Шишки рассыпаются, мы пытаемся их собрать, а они все