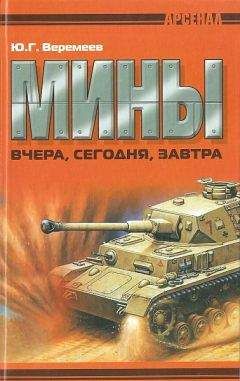— Я сам хочу читать.
Зоя Михайловна погладила его по голове, сказала:
— Вот видишь! Я же знала, что тебе понравится, — и ушла на кухню.
А Валька взял книгу и стал переставлять в ней слова.
Сегодня отец с Зоей Михайловной в парк пошел. Река там. Мостки наплавные, лежаки на них, вышка. На берегу песок. Лежишь: животу щекотно, спине горячо. Песчинки одна к одной, пересыпай их из ладошки в ладошку. Отец, конечно, лимонаду принес, бутылки закопал возле самой воды; горлышки торчат, волна пробки лижет… А Валька купаться не пошел. Неохота ему с Зоей Михайловной купаться. «Больше трех минут в воде не будь». «Не плавай». Сиди, ее сарафан карауль.
Прошелся Валька вдоль забора: туда-сюда… Сел — не сидится. Встал и во двор пошел.
Под крыльцом игровая — бойконур называется.
Валька доску секретную отодвинул, в щель просунулся, забрался под крыльцо, вытянул из совсекретного угла ящик, открыл… Так и есть! Порох отсырел, даже мешочек влажный. На таком порохе не взлетишь высоко. И контейнер с кабиной почернели-заржавели. Сушить все надо, чистить. В этом году, наверное, запуск не удастся: не все технические вопросы решены. А бутылке с керосином ничего не сделалось. Валька открыл бутылку, понюхал: даже не выдохся керосин. Мало, наверное, одной бутылки для запуска. Может шлепнуться ракета на полигон. Или, может быть, сделать наоборот: первая ступень чтобы на твердом топливе работала, а вторая — на жидком? Так, пожалуй, лучше. Трубу надо доставать хорошую. У водосточной стенки тонкие, разорвать может… И насчет подготовки космонавта пора как следует подумать… Кот Мурзик забастовал, тренажер-качели за версту обегает, шипит на них. Боится кот наземной подготовки. Словом, без дублера не обойтись… Кого назначить?
Перебирая детали ракеты-носителя, Валька озабоченно морщил лоб.
Скрипнула калитка. Валька к щелочке приник: бабка Варвара. Бабка Нашатырный Спирт. Вредоносная старуха. Только скажет она: «Разобьете окно, оглашенные!», как мяч сам собой поворачивается и — бух в стекло! Однажды Валька сам видел и слышал: зашумела-зашумела бабка на улице, в сторону огородов показывает. А там, в шалаше, мальчишки играли. Бабка руками машет, шумит: «Сожгут, окаянные! Беспременно сожгут!» Только она так сказала, шалаш вспыхнул и задымил. Все наперед бабка знает. До революции, наверное, колдуньей работала.
Бабка Варвара двор оглядела, на крылечко поднялась, в дверь поторкалась:
— И-э-э-эй! Хозя-ва-а! — И, не дождавшись ответа, зашмыгала: — Ишь ты! Скажи ж ты! Боже ж…
Поторкалась-поторкалась бабка в дверь, в окно поглядела, спустилась с крылечка, козырьком ладошку приставила… На сарай смотрит. Валька ждал, что она посмотрит, повернется и уйдет несолоно хлебавши, а бабка взяла скамеечку маленькую и, бормоча что-то, уселась себе. Как раз напротив лаза секретного. Надолго, видать, уселась.
Под крыльцом сразу неуютно стало. Сидеть, в три погибели согнувшись, мало удовольствия. Земля голая. Сыро, неприятно. А вылезать нельзя: узнают тогда про лаз секретный.
Бабка побормотала-побормотала и вроде носом клевать начала. Попробуй теперь ее с места стронуть.
— Гав! Гав! — осторожно потявкал Валька.
Бабка прислушалась.
— Рры-ы!.. Гав! Гав!
— Никак, собаку завели, — зашевелилась бабка. — Вот я тебя камнем сейчас, окаянную. — И в самом деле камень подняла.
— Не надо! — закричал Валька. — Это я! — И неловко пятясь, стал выбираться на свет.
— То-то голосок-то, слышу, знакомый, — сказала старуха. — Тявкает, слышу. Никак, думаю, тот самый малец, который ко мне за рябиной лазил.
Валька побагровел.
— Гулять ушли сами-то?
— Гулять.
— А ты садись, милый, садись, чем под крыльцом-то зябнуть. Хороша погодка-то больно. Жарынь!
Вблизи бабка Варвара нестрашная. Прокопченная она здорово, в узелках вся. А так ничего… Лицо, хоть и темное, в морщинках все, а не злое.
Валька сел. Бабка тоже поудобней устроилась, плечом к стволу груши притулилась, платочек поправила, повздыхала шумно.
— Я ведь чего… чего я, вижу, тоскует… Один, мол, дома. Беспременно, беспременно шалить начнет… беспременно. Поколачивает она тебя?
Валька покраснел, через губу сплюнул, сказал, нахмурившись:
— В угол вчера ставила.
— Ишь как, — пробормотала бабка. — А отец-то, чай, любит тебя?
— Любит, — сказал Валька. — Только он ее боится. А так он хороший.
Бабка потыкала костлявой рукой Вальке в голову — считай, погладила — и вздохнула:
— Учишься-то хорошо?
— Каникулы сейчас, — уклонился Валька от ответа.
— Ну ты поиграй, поиграй, малый, а я посижу на солнышке. Внук у меня… Бо-ольшой ученый стал. Письма теперь все шлет, к себе зовет. — Она помолчала. — Сына-то убили у меня… Один внук остался. А невестка все бегала-хлопотала, а потом, узнала когда, руки на себя наложила.
— Фашисты убили? — тихо спросил Валька.
— Фашисты… фашисты и есть… — В груди у бабки что-то забулькало-заклокотало. Она передохнула. — Уеду, правнуков нянчить уеду. Тоска мне здесь-то.
…Жара спадала. Тень от груши передвинулась к тропочке, дотянулась до забора, стала медленно вползать на него. Оживленно переговариваясь, протопала по улице группа людей. Люди семьями возвращались из парка. Кто-то протрещал по забору палкой: тра-та-та-та…
— Пойду, — поднялась бабка. — Скоро, чай, и твои придут… Ты, гляди, с огнем не балуй под крыльцом-то. Долго ли до греха!
— Не буду, — пообещал Валька.
Он проводил бабку за калитку, смотрел, как она переходит дорогу. Хатка ее стояла наискосок. Потемневшая, с покосившимися наличниками над ясными окнами, за похилившимся палисадничком хатка была похожа на бабку: маленькую, глазастую, в ситцевом передничке поверх темного платья. Только платочки на головах разные: крыша у хатки зеленая, облезлая, а косынка у бабки пестренькая, веселая.
— Бабушка! — нерешительно позвал Валька.
Бабка остановилась:
— Чего, милый?
— Вы приходите еще, — стесняясь чего-то, попросил Валька.
— Приду. Беспременно приду. Только уж с огнем-то не шали Христа ради.
— Я, честное пионерское, не буду.
Валька загляделся на бабку: вот она дорогу перешла, калитку открыла, вот ее косынка в окне промелькнула… Раздумался Валька и не заметил, как подошел отец с мачехой.
— Как ты провел день? — Зоя Михайловна во двор шагнула, соломенную шляпку за спину забросила. Платье на ней легкое, прозрачное, ветерок цветы шевелит-разбрасывает, Зоя Михайловна подол рукой поправляет. — Кто-то был?
— Никого не было.
— А это что?
Валька даже поперхнулся: секретная лазейка под крыльцо оставалась открытой.
— Что это?
— Это… это доска. Оторвалась доска! — Валька кинулся к доске, приладил ее, застучал по ней кулаком. — Я ее прибить хотел!
— Подожди! — Зоя Михайловна прищелкнула пальцами. — Сережа, будь добр, загляни под крылечко.
Доска упала.
Отец поставил сумку на землю, опустился на корточки, просунул голову в лазейку… Протиснулся дальше: Валька не сводил взгляда с его икр, туго обтянутых штанинами. Теперь ничего нельзя сделать. Сейчас отец вылезет и…
Утром Валька рано встал и на улицу вышел, потому что разговор в спальне услышал:
— Ты губишь его своей мягкотелостью! Он вырастает… Он стоит в углу, а по затылку видно, как он кривляется и смеется. Это ему потеха. Я для вас обоих — потеха!
— Но, Зоинька… я всегда считал телесные наказания…
— Он считал! Макаренко! Ты не видишь, куда он катится? Где твое мужское слово? Власть отца?
…Отец вылез, отряхнул ладони:
— Сырость. Когда крыльцо моешь, воды много льешь. — Он взял доску, поставил на место, пристукнул. — Ничего там нет.
Отец хмуро отвернулся, пошел к рукомойнику.
«…Прощай! — думал я об отце. — Сейчас мне двенадцать, через пять — будет семнадцать, детство пройдет, и в мальчишеские годы мы с тобой больше не встретимся.
Помнишь, как в глухом лесу звонко и печально куковала кукушка и ты научил меня находить в небе голубую Полярную звезду? А потом мы шагали на огонек в поле и дружно распевали твои простые солдатские песни.
Помнишь, как из окна вагона ты показал мне однажды пустую поляну в желтых одуванчиках, стог сена, шалаш, бугор, березу? «А на этой березе, — сказал ты, — сидела тогда птица ворон и каркала отрывисто: карр… карр!» И вашего народу много полегло на той поляне. И ты лежал вон там, чуть правей бугра, — в серой полыни, где бродит сейчас пятнистый бычок-теленок и мычит: муу-муу! Должно быть, заблудился, толстый дурак, и теперь боится, что выйдут из лесу и сожрут его волки.
…Прощай! — засыпал я. — Бьют барабаны марш-поход. Каждому отряду своя дорога, свой позор и своя слава. Вот мы и разошлись…»
Валька отложил книгу и прикрыл глаза.