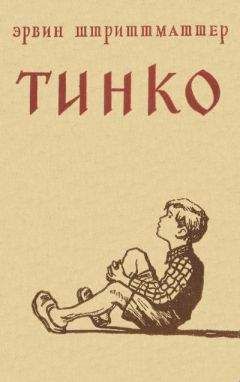— А теперь к кому, Пуговка?
— К старому ворчуну Краске.
Батюшки! Что ж мне теперь делать?
Башмак что-то вдруг начинает жать. И ничего тут такого нет: всю неделю я бегаю в открытых туфлях, вот мне башмаки и стали малы.
— Пуговка, знаешь, мне что-то башмаки жмут.
— А ты сними их и ступай босиком. Сейчас тепло.
Я присаживаюсь на травку у обочины. Большой Шурихт, участливо поглядывая на меня, тоже останавливается:
— Ты бы сперва поглядел, что жмет: башмак или нога? Если башмак, снимешь его — и все. А вот если нога, то придется тебе похромать, пока мы не обойдем всех задолжников.
— Да нет, кажется, башмак, большой Шурихт.
Белый Клаушке тоже останавливается возле меня:
— Да Тинко просто не хочет петь с нами перед домом своего дедушки. Это у него примиренческие настроения. Очень им такие в Польше нужны!
Это уж чересчур: не хватало еще, чтоб Белый Клаушке меня отчитывал. Я вскакиваю и кричу:
— Теперь держись!
Мы выстраиваемся перед нашими воротами. Партийцы тоже уже подошли. Наш солдат останавливает Пауле Вунша:
— Вунш, послушай, а не много нас тут? Может быть, нам разделиться? Вам сюда зайти, а другим пока пойти к следующему, а то мы и к обеду так не управимся.
Пауле Вунш приподнимает шапку и приглаживает свои седые волосы. Он долго смотрит на нашего солдата. Над переносицей у него появляются два бугорка.
— Думаю, что нам надо вместе оставаться. Лопатой куда больше загребешь, чем ложкой.
Наш солдат переступает с ноги на ногу:
— А ты уверен, что нас тут не слишком много?
— Абсолютно уверен. Нам как раз необходим кто-нибудь, кто мог бы поговорить с твоей матерью. Как бы она, чего доброго, не испугалась.
Наш солдат сдается. На щеках у него вздулись желваки. Пауле Вунш подает нам знак:
— Вы чего ждете? Пойте громче, а то старый Краске туговат на ухо, — говорит он и заходит в дом.
Еще не заалел рассвет,
Но встали пионеры.
Еще молчит скворца кларнет,
Но встали пионеры.
Еще роса вокруг блестит,
А наше знамя ввысь летит! —
поем мы.
Маленький Шурихт, Инге Кальдауне и длинная Лене Ламперт у нас вроде скворцов — они насвистывают мелодию. Остальные подхватывают и поют так, что стекла дребезжат. Я пою громче всех. Может быть, меня услышит бабушка и ей будет приятно. Ей ведь так хотелось, чтобы я записался в пионеры. Вот-вот ее маленькое, сморщенное лицо покажется из дверей и она услышит, как поет ее Тинко. Кто-то дергает дверь изнутри. Дверь открывается. На пороге стоит злой-презлой дедушка.
— Псы окаянные! — кричит он. Его снежно-белые усы топорщатся, как у сердитого кота. Взгляд его заставляет нас дрожать, точно от холода. — Чего разорались у меня под окном? Жабы, бездельники, дармоеды вшивые! В воскресенье и то старику покоя не дают!
Дедушкин взгляд падает на меня. Сердце в моей груди вот-вот остановится. Но дедушка не узнает меня. Его ругательства капают, словно дождевые капли в грязную лужу.
— Знаю я, зачем вы пришли, сатанинское племя! Народ созвать хотите вытьем своим. Идите, мол, все, глядите на Краске-хозяина — это он, такой-сякой, до сих пор яйца не сдал для дармоедов городских. Псы! Стервятники!
Наш хор звучит все жиже.
— Кыш-кыш! — пугает нас дедушка, перешагивает через порог и, растопырив руки, гонит нас прочь. — Кыш-кыш! Убирайтесь отсюда! Не то всех вас вымажу яйцами!
Мы разбегаемся в разные стороны. Перепуганные девчонки визжат. Я тоже хочу удрать, но дедушка уже схватил меня и поворачивает к себе. Я смотрю на его перекошенное лицо. Глаза у дедушки почему-то большие-большие. Он задыхается.
— Ты?.. Неужто господь бог пьяным в канаве лежит? Неужто со времени Ноя мир видел такое? И ты, внучек, и ты срамишь своего деда? — Дедушка бьет меня.
Руки мои беспомощно болтаются. Я не в силах поднять их, чтобы защититься. Я дурной человек: родного дедушку осрамил. Как же ему не бить меня? Это его право. Костлявые дедушкины руки так и хлещут меня по лицу. В голове начинает гудеть. Пошатнувшись, я падаю. Дедушка оставляет меня. Он только еще раз пинает меня ногой, будто хочет увериться, что я большего и не стою, как валяться тут на улице.
— Будешь деда своего срамить? Будешь на него народ натравливать? Это все семя отца твоего, его семя, его — разрушителя! Вытрясу я его или задавлю тебя!
Из дому выходят наши партийцы. Они прогоняют дедушку. Он клянет их на чем свет стоит, ругает господа бога и весь мир.
У меня нос разбит в кровь. Лицо разбухло. Пуговка и большой Шурихт оттаскивают меня в сторону. Стефани приносит смоченный платок и прикладывает его мне к голове.
— Не умирай, пожалуйста, как тогда! — просит она. — Ты меня узнаешь, Тинко?
— Узнаю, Стефани.
Платок, который приложила Стефани, делается весь красный. Неужто так плохи мои дела? Я пытаюсь приподняться. Сажусь. Значит, я не буду два дня мертвый лежать, как тогда. Я стал теперь твердым человеком. Я ведь и Фрица Кимпеля победил на Андреев день.
Подходит Пауле Вунш. Он присаживается рядом со мной на траве и кладет мне на плечо руку:
— Досталось тебе, паренек, за всех нас досталось! Ну как, легче теперь?
— Легче, господин Вунш.
— А петь ты еще можешь?
— Мне бы лучше больше не петь, господин Вунш.
— Нет, ты будешь петь, Тинко. Обязательно будешь. Залетишь высоко-высоко и будешь петь, как жаворонок над полями.
Пауле прижимает меня к себе. В первый раз я чувствую, как бывает, когда у тебя есть отец.
— А я ведь тоже таким огольцом был, точно таким, — говорит Пауле и раздвигает толпящихся вокруг пионеров, чтобы они ему наш дом не загораживали. — Мы тогда тоже по деревне ходили и пели, чтобы яиц набрать. На пасху это было. С утра пораньше вставали и пели. А нам за это яйца давали. Да… Дома-то кур у нас своих не было, вот мы и ходили петь. А тараканы под печкой — они ведь яиц не несут, верно я говорю?
— Верно, господин Вунш.
— Ну вот видишь, а хозяева нам за песни яиц давали. Некоторые так даже крашеные. Правда, яйца были лежалые, потому что не очень-то нас хозяева любили, но все же это были яйца. Но тогда мы их собирали для себя. Понимаешь? Каждому доставалось, что он сам себе напел. Для себя-то легко яйца собирать, верно я говорю? И очень трудно их собирать для других.
— И так и этак трудно, господин Вунш.
— Но, понимаешь, как-то благородней собирать их для других.
— Только у дедушки трудно собирать их для других.
Со двора слышится хриплый дедушкин голос. Но какой-то другой голос, громче дедушкиного. Это голос учителя Керна, нашего терпеливого учителя Керна.
— Сюда он больше никогда не придет! — кричит учитель Керн. — Нет, даже если мне придется его взять к себе!
Из дому выходит наш солдат. Он бледный очень и злой.
— Успокоил мать? — спрашивает его Пауле Вунш.
— Вроде успокоил. Самое-то страшное для нее начнется, когда мы все уйдем отсюда… — Вдруг наш солдат видит меня: — Что с Тинко? — Голос его дрожит, глаза заволакиваются туманом. Он берет меня на руки и несет в деревню. У меня слезы катятся по щекам. — Не плачь, Тинко, не плачь, родной…
Я чувствую тепло нашего солдата даже через его куртку. Оно согревает меня. Я точно куренок, который слишком долго бегал по мокрой траве на лугу, закоченел совсем и теперь спрятался под крылышко наседки. Отогреется он немного, высунет клювик и опять выскочит на волю: надо же поглядеть, что творится вокруг.
— Больно он тебя ударил, Тинко?
— Нет, не очень, папа… Знаешь, я теперь сам могу идти.
Высокий человек с насупленным лицом прижимает меня к себе, а слезы всё бегут и бегут по моим щекам, будто это он их выжимает у меня из глаз.
Что за беготня в деревне? Это Лысый черт сдает яйца на сдаточный пункт. Только мы ушли, как он созвал всю дворню:
— Берта, сколько нам еще осталось сдать яиц голодранцам?
— Да я-то не виновата. Вы, хозяин, ведь сами велели не…
— Заткнись! Сколько нам еще осталось сдать, спрашиваю я тебя?
— Восемьсот шестьдесят штук, должно быть…
— Хорошо. Восемьсот шестьдесят так восемьсот шестьдесят. Есть у нас столько?
— Да больше у нас. Берлинские ведь еще, те, что для Шенеберга приготовлены…
— Заткни свою старую глотку! Я тебя спрашиваю, есть ли у нас в доме столько яиц, сколько с нас требуют?
— Да есть, есть у нас, а ежели взять еще и берлинские…
— Да заткнись, я сказал!.. Так вот, сегодня будем сдавать. Кто на это дело выйдет, тому сверхурочные заплачу.
Первое яйцо на сдаточный пункт приносит после обеда старый Густав. А старый Густав — он ведь такой старый, что батрачил у Кимпелей, когда еще тот Кимпель жив был, который потом до смерти упился. Но такого, что теперь молодой хозяин выдумал, старый Густав отродясь не видывал.