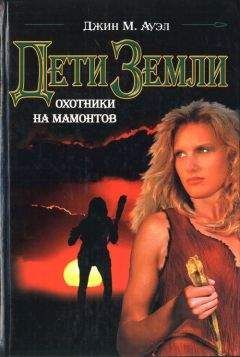думала она. – Где они ошиблись?»
Но, разумеется, на фотографиях были совсем другие люди. Отличие таилось в их улыбках. Испуганные лица улыбались по-другому: уголки их губ были слишком натянуты. В самые радостные моменты жизни, даже в шестнадцать – когда мамины друзья и родственники повернулись на скамьях, чтобы посмотреть, как ее фигурка в кружевной вуали плывет по проходу навстречу моему отцу, – даже тогда никто не улыбался так, как на этих фотографиях. Потом она узнает, что так улыбаются экс-геи. Эта улыбка будет преследовать ее на протяжении девяти лет. Она будет мерещиться ей везде, даже на лицах соседей, с которыми она сталкивается каждую неделю, – будто весь мир без ее ведома жил тайной жизнью. В супермаркете шаткая тележка едва не выскользнет у нее из рук – но холодеющие пальцы стиснут пластиковую ручку, – когда она почувствует, как улыбка проносится мимо, словно дуло пистолета. Такова будет власть этой улыбки над ней, над всеми нами.
Она прочла слова, расположенные под фотографиями:
Господь многое открыл мне здесь, я узнал, что я эгоистичен и труслив и что именно это не дает мне вырваться из замкнутого круга гомосексуальности.
За то время, что я провел здесь, я узнал, что меня любят и принимают, даже если я не в силах преодолеть сексуальную зависимость.
Вступление в «Любовь в действии» подарило мне шанс помириться с родителями.
Все, что говорили эти лица, звучало для нее и чуждо, и знакомо одновременно. Чуждо, потому что ей был непривычен специальный жаргон «Любви в действии», способный исказить восприятие самых сложных человеческих переживаний, поместить их в рамочку и маркировать такими словами, как «эгоизм», «страх» или «зависимость». Знакомо, потому что церковь была задумана как большая семья Господня, Его затерявшееся на земле племя – те немногие, кто достоин Вознесения, – и использовала такие слова, как «любовь» и «принятие», переваривавшиеся вместе с каждой дозой пресного хлеба и каждым пластиковым наперстком виноградного сока.
Она отодвинула от себя брошюру. Остальная часть кухонного стола была засыпана бланками заявки в ЛД – их мама достала из того же конверта. Наверху каждого листа красовался логотип ЛД – перевернутый красный треугольник с вырезанным в центре сердцем.
– Даже тогда я подумала, что логотип какой-то странный, – признается мама позже. – Сердце было вырезано, как будто его собирались забрать.
«Так я себя и чувствовал», – подумаю я, а потом нажму кнопку на диктофоне и отмотаю пленку, чтобы проверить, записались ли мамины слова.
Отрезаешь все, что было тебе когда-то дорого, не обращаешь внимания на то, как саднит гортань, стираешь детали, которые хочешь забыть. Швыряешь первую половину своей истории в мусорку, повторяешь за наставниками. После ЛД я потерял много друзей и долгие годы не общался со старыми бойфрендами потому, что мне легко удавалось забыть про свои чувства к ним. Бессердечность не требовала усилий. После ЛД оказалось так просто стать бессердечным, что я даже не задумывался об этом. Ведь для моего развития необходимо было рвать отношения со всеми из прошлой жизни. Так поздней осенью поджигают поля – я часто видел подобное в детстве из окна гостиной. Оранжевая стена огня подпрыгивает до самых краев поля. Коси и поджигай, чтобы освободить место для нового урожая.
Так я и сделал. Хлоя, Брендон, Дэвид, Чарльз и Доминик из колледжа и Калеб, старшекурсник с факультета искусств, которым я восхищался и с которым поцеловался впервые в жизни.
– Давай прервемся, – скажет мама и встанет из-за стола, придвинув ко мне диктофон.
Она встанет в центр горящего поля и откажется двигаться с места, даже когда огонь подойдет слишком близко, – только бы я заметил ее боль. И там она будет ждать моего отца.
Суббота, 12 июня 2004 года
Это были мармеладные мишки – красные, желтые и зеленые в пластиковом пакетике, покрытом пленкой пыли. Их давно никто не трогал. Я замер в проходе магазина на заправке «Коноко», выбирая между мишками и червячками. Мама ждала в машине. Мы не спешили: у нас было полно времени – целых два часа – до церемонии рукоположения отца. Мы решили остановиться, не сговариваясь, словно это была промежуточная станция между двумя мирами, в которых мы теперь обитали. И сейчас, когда я смотрел на сладости, оказалось, что принять простое решение бесконечно сложно, словно я выбирал еду перед смертной казнью или пилюли из «Матрицы», после которых мы никогда не будем прежними. Я хотел вернуться к машине с правильными конфетами, выбрать что-нибудь нестандартное, чтобы удивить маму, сделать интуитивный прыжок, от которого она бы взвизгнула: «Не помню, когда в последний раз их брала!»
Только я больше не был уверен в том, что знаю маму достаточно хорошо, чтобы удивить.
Я оставил мармеладных мишек висеть на металлических стержнях и пошел дальше по проходу. Боковым зрением я видел стекло холодильника, такое холодное, что оно казалось горячим – внутри сверкали яркие этикетки, а металлические банки излучали жемчужно-белое свечение. Кассир, пожилая женщина с пушащимся хвостиком, была на страже и не сводила с меня глаз с тех пор, как я вошел в магазин. В то утро я выглядел необычно: темно-голубой пиджак, брюки под цвет, белая рубашка с едва заметными манжетами и черные ботинки. Вот он – парнишка из колледжа, который идет субботним утром в воскресную школу, вместо того чтобы валяться на диване