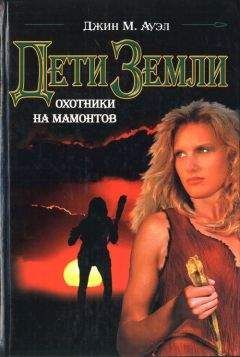не спешили. Завтра была суббота, и мы все не могли найти себе места.
– В голове не укладывается, – произнес я, разворачивая бигмак.
С бургерами вечно что-то не так. Я попытался засунуть вторую котлету под булку, но бургер начал разваливаться. Я поскорее откусил кусок.
– Это же кино, – ответила Доминик. – Выдумки все.
Чарльз фыркнул с трубочкой во рту:
– Я видел вещи и пострашней.
– Может, в реальности все было гораздо страшнее, чем в фильме, – сказал я, чувствуя, как кусок бургера медленно скользит по пищеводу. Я откусил слишком много. – Мы бы с ума сошли, если бы увидели настоящее распятие.
– Все возможно, – сказал Чарльз, вставая. – С ума можно сойти от чего угодно.
Доминик хлопнула по столу.
– Например, если увидела, как застрелили соседа.
– А ты такое видела? – спросил я.
Гамбургер застрял в пищеводе. Меня немного подташнивало.
– Нет, – ответила Доминик, – но не сомневаюсь, что увижу, когда вернусь домой. Рано или поздно, но увижу.
– У нас в районе такое постоянно случается, – сказал Чарльз и отправился к стойке наполнить бумажные стаканчики кетчупом. Кетчупа вечно не хватало. Стаканчики как будто специально задумали такими, чтобы посетители каждые пять минут возвращались к стойке за кетчупом. Оттого приправы на нашем столе казались драгоценными камнями, выложенными в ряд, – горстками рубинов, загадочно мерцающими под флуоресцентными лампами.
«Как здесь все фальшиво», – неожиданно подумал я.
Я представил, что приезжаю к Чарльзу и Доминик и вижу, как кто-то стреляет в прохожего; кровь брызжет на белую футболку. Станет ли все менее фальшивым, если я за-гляну в самое сердце насилия?
– Как мы вообще можем есть после этого фильма? – Я бросил бургер на стол; по булочке потек крапчатый соус.
– А по-моему, это естественно. – Чарльз вернулся за стол со стаканчиками. – Мы не можем не есть.
– Послушай, – сказала Доминик, окунув очередной ломтик картошки в кетчуп, – мы пошли только потому, что ты попросил, а теперь ты ведешь себя так, будто мы сделали что-то плохое. Фильм оказался напряженнее, чем мы думали, ну и что? Мы здесь, мы живы и неплохо учимся. Господь хотел бы, чтобы мы это ценили.
– Господь хочет, чтобы мы хорошо учились? – фыркнул Чарльз. – О боже!
– И еще Господь хочет, чтобы ты доел бигмак, – сказала Доминик. – Кстати, доедать будешь? Если нет…
Я подвинул к ней бургер.
– Вы ничего не понимаете, – вздохнул я.
Конечно, они не были ни в чем виноваты. О семье я не рассказывал, и мое поведение наверняка казалось им странным. Еще минуту назад я был совершенно равнодушен к своей вере, а теперь веду себя как ярый фанатик, как отец. Я понимал, что никогда не смогу признаться друзьям в том, что со мной происходит, даже если мы всегда будем вместе; я обречен идти по жизни, волоча за собой мир, который они никогда не увидят, так же как и они одной ногой живут в районе, куда я не смогу попасть.
– Я знаю, что тебе нужно, – произнесла Доминик, притоптывая ногой. – Тебе нужна песня!
Я почувствовал, как кусок бургера наконец бухнулся в желудок. Невероятным усилием я заставил себя не скривиться.
– О нет! – сказал Чарльз, округлив глаза. – Мы только и делаем, что поем.
Кетчуп ярко-красным пятном висел на его нижней губе. Я вспомнил статью о разработке специальной крови для «Страстей Христовых» – тошнотворно приторный красный краситель, маслянистая камедь, которую смешивали с глицерином, чтобы она получилась более вязкой.
Доминик встала, вытерла испачканные солью руки о синюю рубашку и прочистила горло. Потом огляделась. В зале сидели всего несколько человек. За окном мутный оранжевый туман окутывал мир, затемняя дорогу. Несколько снежинок приникли к оконному стеклу и растаяли, оставив после себя мокрый след. На какое-то мгновение мне показалось, что мы внутри странного снежного шара и кто-то взболтал его и повернул ключ музыкальной шкатулки. Доминик схватила Чарльза под мышки и заставила его подняться, чуть не столкнув на стаканчики с кетчупом.
– Summertime, – запела она, невероятно мелодично и невероятно не по сезону.
Люди в зале обернулись. «Почему ты с ними?»
Чарльз присоединился к ней. Я молчал.
– There’s a’nothin can harm you, – пели они, – with your daddy and mammy standing by.
Я бросился в туалет и захлопнул дверь, заглушая их пение. Склонившись над унитазом, я глядел в безмятежную воду и ждал, но ничего не случилось. Только отражение почти незнакомого тощего лица смотрело на меня в ответ.
В тайной жизни конверсионная терапия растет внутри меня, поселяется под складками кожи, захватывает слизистую оболочку желудка. Желудок бурлит от кофе и макмаффина с яйцом, который мама заставила меня съесть по дороге к психологу; желтая обертка шуршит у меня в руках, колеса машины стучат по мосту над Миссисипи. Мама в последнее время часто так делает: заставляет меня есть калорийную пищу, подсовывает тайком майонез в сэндвичи и не позволяет мне осуществить мой план – стать невидимкой.
– Ваши мысли ранят Господа, –