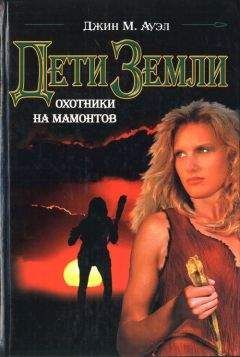слоев выкрашенных желтым брюссельских игольных кружев, которые опускались баской чуть ниже черного пояса с высокой талией. «Нет, – подумал я, – ты похожа на подснежник, галантус, во всей его увядающей красоте». Даже в часы уныния и страха мама одевалась красиво. Любовь к деталям, текстурам и качественным тканям отвлекала ее от проблем. Облачившись в помпезный наряд, она взывала к предкам, дабы те уберегли ее от страданий, которые ей суждено было пережить в ярко освещенном кабинете доктора. Она ничуть не походила на Долли Партон с ее ярким макияжем и вечным оптимизмом южанки, которую не встретишь в повседневной жизни, как, бывало, ошибочно считали северяне; напротив, моя мать, подобно многим южанам, была бесстрашна и решительна, стоит только посмотреть сквозь улыбку и кружева. За последнее десятилетие ей довелось многое пережить: она потеряла родителей, стала женой священника, а теперь обнаружила еще и этот семейный позор, всегда находившийся под ее маленьким, унаследованным от матери носиком. Тем не менее мама была упорна и умела терпеть, стараясь не терять собственного достоинства. Что она может сказать сейчас, сидя перед доктором Джулией, если не смогла признаться самой себе, что слова «гей» или «гомосексуальный» присутствуют теперь в ее жизни.
– Он плохо ест, – в конце концов произнесла она. – За последний месяц похудел на десять фунтов.
Пальцы на левой ноге онемели, и я переменил положение. Под бедрами зашуршала бумага – почему-то я всегда умудрялся ее порвать. Звук рвущейся бумаги в оглушительной тишине казался неловким, каждое движение – излишним (под бумагой вдобавок заскрипел пластиковый стул), словно у пациента специально проверяют способность сидеть неподвижно и сохранять спокойствие, какой бы диагноз ему ни озвучили. Меня не покидало чувство, что каждое мое движение записывается, образуя диаграмму, по которой определят степень моей гомосексуальности.
– Вы и правда исхудали, – проговорила доктор Джулия, поворачиваясь ко мне на скрипучем табурете.
– Я ем, как и раньше, – соврал я, – просто больше бегаю.
Деревья скользят мимо, фонари один за другим манят своими крошечными пятачками света, озеро сверкает под белой луной, вдалеке свистит ветер – все это правда. Я непрерывно бегал с тех пор, как родители сказали, что следует задуматься о терапии. То, что я соврал по поводу еды, было бессмысленно, хотя мне все равно следовало объяснить причину моего резкого похудения, тем более что одежда теперь висит, а свитер касается только плеч, ключицы и длинных исхудавших рук. Я не ел, и всем присутствующим это было очевидно – так невооруженным глазом видны рефлексы, когда молоток бьет по колену, хотя доктор Джулия, как правило, не пользовалась формальными методами обследования, а переходила сразу к проблеме.
– Я очень волнуюсь, старая одежда теперь ему велика, – продолжала мама.
Зачастую маленькой победой для меня становилось осознание того, что я освободился от власти еще одних пут прошлого. Я сам контролировал, как быстро худею, и мне нравилось не только что прошлое уходит из моего тела (жир походил на древесные кольца, только уменьшался и исчезал), но и что люди растерянно на меня глядят, не узнавая с первого раза, удивленно всматриваясь в мое лицо. Я стал другим мальчиком.
– Мне кажется, он специально себя истязает, – сказала мама, повернувшись ко мне.
Ее высокие каблуки постукивали по полу. Я вспомнил плеть, опускавшуюся на искалеченное, окровавленное тело Иисуса. Нет, то, что я делал, нельзя назвать истязанием. Это был самоконтроль. Когда доктор Джулия поможет мне повысить уровень тестостерона, я обрету еще больший самоконтроль.
– Милый, мне кажется, ты истязаешь себя.
– У меня есть свое мнение по поводу того, что происходит, Гаррард.
Доктор Джулия произнесла мое имя так, словно то была очень хрупкая вещица в крепкой хватке ее медлительной деревенской речи. Именно так деликатно и стоило обращаться с моим именем. Оно было частью семейной истории; имя с гордостью передавалось от мужчины к мужчине, от прапрадеда к прадеду, а потом к деду и, наконец, ко мне. И мама, и доктор Джулия, и я понимали, что если я провалю тест на мужественность, то никогда уже не добавлю еще одного тезку в нашу семейную ветвь. Вместо этого с моим именем всегда будет ассоциироваться окончательный распад семьи, огромная дыра под ним в семейном древе.
– Ты слышишь? – спросила доктор Джулия. – Мы думаем, что мне с тобой стоит поговорить наедине.
Мама прошуршала прочь из комнаты. Дверь закрылась. Отражавшийся от плитки свет походил на сияющие небесные тела.
– Ну вот, – сказала доктор Джулия.
Ее голос прозвучал неожиданно громко в опустевшей комнате. Все это для нее тоже было внове. В Арканзасе в большинстве городов не принято разговаривать о сексуальной ориентации, даже, как я подозревал, – нет, в особенности – в медицинских учреждениях. Мысль о том, что грех имеет биологическое начало, шокировала бы бо́льшую часть моей общины, хотя во многих церквях об этом уже догадывались – и начали раскладывать в фойе брошюры «Любви в действии». Брошюры эти никто не читал: многие проходили мимо пластиковых стоек и не удосуживались даже бросить взгляд.
Я поднял голову и увидел, что доктор Джулия стоит совсем рядом; ее лицо выражало подлинное беспокойство.
– Послушай, – начала она, – я знаю, что такое истязать себя. Я сама так делала.
– Я ничем таким не занимаюсь, – солгал я.
– Еще как занимаешься, – продолжала она, скрестив на груди руки. – В этом нет ничего страшного, если это временно. У меня самой были проблемы с весом, пока я не сделала операцию по уменьшению объема желудка. Я страдала от переедания. Но если бы дело было только в весе, можно было бы просто за ним следить. Дело ведь не в весе, правда?