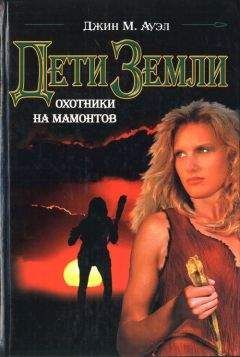к странному опьяняющему аромату поля.
Результатом производства становился чистый белый рулон хлопка, завернутый в мешковину, которую закрепляли металлическими ремнями. Мне это показалось невероятно красивым. Я проводил рукой по теплому, плотно упакованному хлопку и закрывал глаза, чтобы отгородиться от всего внешнего: от грохочущих машин, снующих рабочих, даже от отца. По ночам, лежа в постели, я представлял, что наволочки и простыни сделаны на нашей фабрике. Эта мысль не покидала меня в любой кровати, в которой мне доводилось спать, и помогала расслабиться во время приступов бессонницы.
Отец подарил мне главное: понимание моего одиночества, понимание ремесла и осознание жертвы, на которую окружающие шли ради моего комфорта. Процесс адаптации занимает время. Я не ждал, что папа мгновенно примет все перемены моей жизни, так же как и я – его. И все же я бы никогда не назвал наши размолвки насилием, хоть они и были во многом травмирующими. Но в ЛД к подобным отношениям никогда бы не отнеслись с пониманием.
– Вам есть что сказать? – спросил Смид и посмотрел на меня.
Я отвел взгляд.
В тот день нас посадили перед сценой двумя полукругами в главной аудитории ЛД. Солнечный свет проникал сквозь белые жалюзи, каждый из нас был окутан молчанием. Д. сидел рядом со мной. В тот день я позволил себе сесть ближе. Я чувствовал, что его взгляд вот-вот столкнется с моим.
– Неделя была непростой, – произнес Смид. Он вытащил на середину сцены складной металлический стул. – Нервы у всех на пределе. Однако сейчас не время расслабляться – необходимо продолжать путь, чтобы докопаться до сути нашей зависимости.
Вторая часть утренней встречи была довольно тоскливой: Т. признался, что прошлым вечером его снова преследовали суицидальные мысли. Пока он стоял и исповедовался перед нами, мы хором повторяли: «Мы любим тебя, Т.». Но мое сердце молчало. Я сочувствовал Т. и сказал бы ему об этом, будь у меня возможность. Но я не любил его. Как я мог любить человека, который вел себя так безвольно, требовал сочувствия к каждому своему шраму, к каждому признанию, человека, которого я совсем не знал? Мне казалось жалким и чуточку эгоистичным наносить себе телесные повреждения ради всеобщей любви, считать, что Господь и окружающие люди вдруг признают твою ценность при виде твоих ран и страданий. Такой была валюта «Любви в действии» – в ней шла бойкая торговля настоящими и мифическими шрамами, и от этого мне становилось тошно. Все старались перещеголять друг друга, принести на общий суд наиболее болезненный опыт. Иисуса ведь узнавали по его шрамам, а потому нас призывали поднять Его крест и следовать за Ним. Я чувствовал, как глубокий цинизм проникает в мои мысли.
Смид резко раскрыл складной стул, который гаркнул, как испуганная ворона.
– Сегодня вы встретитесь со своими страхами лицом к лицу. И у вас появится шанс продемонстрировать бесстрашие.
Д. прижал свою ногу к моей.
– Это что-то новенькое, – прошептал он.
Я скользнул взглядом вниз, на его ноги, скрытые от глаз Смида впередистоящим стулом, понаблюдал, как он сдвигает и раздвигает их, и вспомнил Вирсавию, искусительницу царя Давида, которая купалась в ванной в его дворце. Давид видел ее с крыши. Д. казался мне красивее с каждым днем. Он единственный меня понимал. В отличие от Хлои, Калеба и наставников, он ничего не требовал, достаточно было быть таким, какой я есть, с маской растерянности и тревоги на лице. Порой мне хотелось выйти за дверь и раз и навсегда покончить с конверсионной терапией, однако в следующее мгновение я мечтал, чтобы Д. увлек меня на пол и заставил читать «разгромные пассажи» из Библии, вновь и вновь, пока до меня не дойдет их смысл. Его красота наводила меня на мысль, что в этом конверсионном эксперименте есть некая ценность.
Смид поставил второй стул напротив первого. После отряхнул руки, повернулся к нам и улыбнулся улыбкой Джеффа Голдблюма с ямочками на щеках.
– Ну, кто первый? – спросил он.
По полукругу разлилось напряжение; все затаили дыхание. Мы не знали, что нас ждет, но было ясно, что речь пойдет о пережитом в детстве насилии, которое мы обсуждали утром. В расписании это занятие звалось «Стулом лжи». В голове возникали шприц, наполненный сывороткой правды, и детектор лжи с электродами, закрепленными на груди. Я почувствовал, как бедро Д. напряглось, когда он вытянул и прижал ко мне ногу. Я оттолкнул ее так сильно, что ножки его стула скрипнули по плитке и он едва не соскользнул с сиденья.
– Д., – произнес Смид, повернувшись на звук, – вам, кажется, не терпится поучаствовать.
– Конечно, сэр, – ответил тот, протискиваясь мимо меня к сцене.
Я отодвинул ноги в сторону, и его бедро коснулось моего колена. Проходя мимо, он бросил на меня мрачный взгляд.
– Садитесь сюда. – Смид указал на стул. – Представьте, что напротив вас сидит отец. Вы можете сказать ему то, что всегда хотели, но боялись.
Д. широко улыбнулся, уселся на стул и сложил руки на груди. Потом откашлялся и уставился в одну точку, туда, где находился его воображаемый отец. Я оглянулся выяснить, воспринимает ли кто-нибудь всерьез эту игру. С. кусала ногти, а Т. сидел, сунув руки в карманы черного кардигана. В конце аудитории в темно-синих брюках стоял администратор, скрестив руки на груди с выражением учтивости на лице. Заметив, что я на него смотрю, он ответил мне взглядом, говорившим: «Сосредоточься». Я отвернулся. Косби в комнате не было, чему я радовался. Без его пристального взора военного дышалось легче.
– «Если прозвучит признание, произойдет