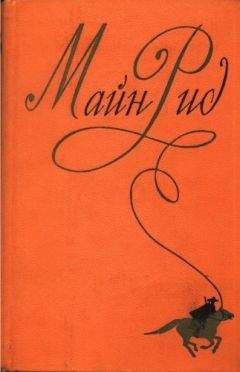Потом нас повели в баню. Ну разве что для смеху. Белье велели сдать в прожарку; там при высокой температуре в камере-вошебойке уничтожали вшей. Когда все разделись, произошла немая сцена, как в дешевой мелодраме. Зэки глазели на меня, а я на зэков. Они все были сплошь покрыты татуировкой — от шеи до пальцев ног. У меня же вообще никакой татуировки не было — такого на строгом режиме еще не видели. Баня длилась минут пять, мыла не было. Спасибо, хоть ополоснулся теплой водой после этапной грязи. Надев наши прожаренные одежды, мы вернулись в камеру. Подали в кормушку обед — обычное тюремное пойло. Я, по неопытности, сел в довольно удобное место, но тут же кто-то меня схватил и отпихнул.
— Ты знаешь, кто здесь сидит? — зарычал здоровенный парень.
Я было хотел сцепиться с ним — раздражение дошло до такой степени, что уже о последствиях и не думал, но к моему противнику присоединились еще несколько зэков, и вид их не предвещал ничего хорошего. Если бы дошло до драки, они, конечно, отделали бы меня так, что недолго бы жить осталось, но Серега привстал на нарах и крикнул, чтоб оставили меня в покое.
— А ты, — сказал он мне, — туда не садись. Видишь, туда никто не садится. Там только воры сидят.
Камера кишела клопами. Спать было нельзя. Зэки играли в карты, а уж картежная игра без драки редко кончалась. И драки-то у них не как у людей. У большинства после долгих лагерных лет ни сил, ни здоровья; дрались не кулаками, а все норовили либо глаз пальцем вырвать, либо нос откусить, либо порвать рот, а после, задыхаясь после драки, злобно матерились и расползались по своим местам, чтобы очухаться к следующему заходу.
Через несколько дней меня вызвали на этап. Как обычно, погрузили в воронок, из которого ничего не видно, и через несколько часов выгрузили возле лагеря. Снова перекличка, ворота открылись, и мы по одному вошли в запретную зону. Наконец-то можно было свободно видеть небо над головой. Дышать свежим воздухом. Пройти несколько шагов. Это была значительная перемена.
* * *
Новый этап вызвали на беседу к начальнику лагеря. Вызывали по одному. Услышав свою фамилию, я вошел в кабинет. Там сидело десятка полтора офицеров, а во главе стола, как видно, — сам начальник лагеря, хозяин, как говорят зэки. Не успел я толком разглядеть собрание, как хозяин, взяв в руки папку с моим делом, сказал:
— Владимир Ильич против Владимира Ильича?
Всю жизнь я страдал из-за своего дурацкого имени и отчества. Оно было объектом шуток для каждого, кто хотел поупражняться в остроумии. Но теперь наступил мой черед.
— Мы совсем разные по масштабу с тем Владимиром Ильичом, — сказал я. — Тот просидел в общей сложности год и четыре месяца, а мне сразу дали три года.
— За что вы были осуждены первый раз? — спросил начальник лагеря.
— Это моя первая судимость.
— Не может быть. Такого еще не бывало, чтобы человек с первой судимостью попал на строгий режим. Это противоречит закону.
— В таких делах, как мое, не до законов.
— Вы спросите здесь любого — и он вам скажет, что его посадили ни за что. Но относительно режима мы проверим, и если это так, то подадим от имени администрации жалобу на изменение режима.
После этого один из офицеров спросил:
— Какой национальности были осужденные преступники, в защиту которых вы выступали?
— Евреи, — ответил я.
— Это не имеет никакого значения, — резко оборвал разговор начальник лагеря. — Вы свободны.
* * *
В бараке, где мне выделили место, было сравнительно тепло. Тусклая лампочка освещала ряды двухъярусных коек, разделенных тумбочками. Внутри барак выглядел несравненно лучше, чем тюремная камера, но произвел он на меня куда более гнетущее впечатление. (начала я не мог понять почему. Вроде бы у каждого есть койка, а на ней — матрац, подушка и одеяло, а на тумбочках какие-то самодельные салфетки или приклеенные фотографии актрис из журналов. У моего соседа даже стоял глиняный горшок, и в нем искусственные цветы из медной проволоки и разноцветных нитей. Сосед улыбнулся, показав два ряда металлических, сделанных в лагере зубов, и спросил, кивая на цветы:
— Нравится?
Я устало кивнул.
— Друг подарил, — с гордостью сказал сосед. — Он умер год назад. Мне это от него память на всю жизнь.
Сосед спросил, какой у меня срок. Когда я сказал, он пришел в отличное расположение духа.
— Три года, — сказал он, — детский срок. У, земляк, можешь на одной ноге до конца срока простоять. Хе, на параше можно просидеть.
— А тебе сколько сидеть? — спросил я.
— Да мне-то немного, — ответил он. — Два с половиной года осталось. Я уж не тужу. Я уж одной ногой на свободе.
— А сколько просидел?
— Около пятнадцати.
— Не выходя из лагеря?
— Что поделаешь. Здесь редко кто меньше просидел, — он засмеялся. — Рецидивисты ведь, не шути. Держи ухо востро, а то живо зажуют. Сел — было девятнадцать лет, сейчас тридцать четыре. Совсем не представляю, как люди на свободе живут.
Я наконец понял, почему первое впечатление от барака такое гнетущее. Тюрьма — место временное. Все равно, как выглядит этот вокзал. Напротив, убогий, нищий уют барака говорил об устоявшейся привычной жизни его обитателей, пытавшихся хоть как-то, в меру своего уродливого вкуса, внести крохи домашнего уюта в свой быт. Для них лагерь не был временным местом. Это был дом, в котором они проводили большую часть своей жизни.
Лагерь… Десять убогих бараков окружены забором, четыре ряда колючей проволоки: два ряда сигнальных проводов, лишь коснись — завоет сирена; да еще два ряда путанки — проволоки, закрученной петлями, которые затягивались, если кто-либо попадал в них.
Из жилой зоны в рабочую можно пройти только на обще лагерных разводах, где всех проверяют по карточкам. При выходе из рабочей зоны в жилую обыскивают, но редко у кого находят запрещенные предметы. Все умудряются проносить в лагерь деньги, ножи, наркотики и даже водку — предмет, неудобный для транспортировки. Вечером зону загоняют на политзанятия — тоже новшество, которого не знали зэки в сталинские времена. На политзанятиях офицеры рассказывают, какая богатая и счастливая жизнь в Советском Союзе, какая большая свобода дается гражданам СССР по сравнению с гражданами стран капитала и на сколько выросло производство мяса, молока и масла за последний год. Как ни странно, после политзанятий зэки никаких вопросов не задают. Тем, кто занят на особо тяжелых работах, дают в лагере «усиленное» питание — дополнительно семь граммов мяса и черпак каши на ужин. Остальным мяса вообще не дают. Так что, всем все ясно.