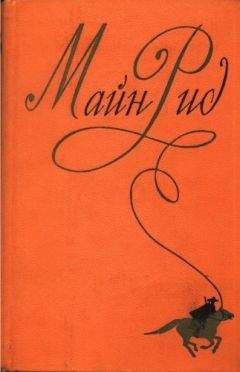— Еврей.
— Еврей? — переспросил он удивленно, точно собирался добавить что-то вроде: «Ну что ж, бывает» или «Ничего не поделаешь». Но вместо этого он сказал:
— Ты знаешь, у меня жена еврейка.
Он дружил с еврейской девочкой с детства. Она ему отдалась и, когда его первый раз посадили на шесть лет, верно ждала его все годы. Серегу за буйство в лагерь не отправляли, а держали в тюрьме — то в одиночке, то в общей камере с такими же зверюгами, как он.
— Вышел я, а она уже почти вся поседела. Ну, взял как-то я пистолет, а она схватила меня за руку — не пускает. Разозлился я, хотел ее застрелить. Она испугалась, стала просить, чтобы я ее не убивал. Под кровать залезла. И ее выволок, да чего-то жалко мне ее убивать стало. Я ей сосок на груди отстрелил. Она в обморок. Ну, я стал сосать у нее кровь.
— Зачем… кровь? — спросил я.
Серега равнодушно пожал плечами.
— А потом она все ездила за мной по тюрьмам. Седая вся. И чего ей надо? Плюнуть бы ей давно, ведь все равно ничего не выйдет. Уже 16 лет — все тюрьмы и больницы, тюрьмы и больницы. Туберкулез, скоро помру. Разве досидеть? В лагерь боятся меня выпускать. Людей, говорят, пугаешь.
Уж если опасаются, что он рецидивистов пугает… Но, честное слово, вид у него был вполне приличный.
Снаружи вагона послышалась возня.
— Этап привезли, — сказал Серега.
Охранники открыли дверь в тамбуре. Раздался истошный, полный отчаяния женский крик:
— Витенька! Ой, Витенька! Ой, ненаглядный! Да что ж это такое! Да что ж это, Витенька!
— Малолеток привезли, — сказал Серега.
Женщина с визга перешла на хрип:
— Витенька! Веди себя хорошо, мальчик мой! Слушайся начальство. О-о-ой, что ж это будет-то, Витенька!
Когда паренька провели в крайний отсек перед решетками, даже полосатики притихли. Он был совсем ребенок — ну, лет тринадцать, не больше. Что же это он мог совершить? А шел гордо, запрокинув голову, руки назад, как настоящий преступник. Женщина снаружи не унималась. Поезд тронулся, и ее крики остались позади. Полосатики о чем-то говорили вполголоса, посмеиваясь. Наконец один из них ленивым блатным голосом заговорил:
— Витенька, а Витенька?
— Чего, — отозвался детский задорный голос из камеры малолеток.
— Витенька, ты знаешь, кто здесь едет? — продолжал полосатик таким тоном, будто собирался сообщить, что он — Красная Шапочка и принес пирожки.
— Нет, не знаю, — по-прежнему задорно отвечал Витенька.
— Здесь сидят полосатики, — сказал зэк, подражая интонации воспитательницы детского сада.
Витенька ничего не ответил.
— Витенька, — елейно продолжал полосатик, — а хотел ты ты попасть к нам в камеру?
— Хотел бы, — ответил Витенька.
Звериный хриплый рев вырвался из двух с половиной десятков глоток.
— У-у-у, — надрывались они, хлопая в ладоши и сладостно матерясь. — Эх, хоть на пяток бы минут его сюда! О-о-о, Витенька! Ух, сейчас бы… А-а-а!
— Вот, тридцать пять мне, — сказал Серега, — а 16 уже отсидел. Еще 10 впереди. Свободы совсем не видел. Уморят меня здесь, не выйду живым.
— За что тебя последний раз судили? — спросил я.
— За убийство. Хотели вышку дать, это у меня не первое. Да судьям взятку сунули. Пятнадцать лет дали. А ты за что?
— За политику, — ответил я.
— Да? — Серега удивился. — А почему тебя с уголовниками везут?
— По 190-й содержат сейчас с уголовниками, — ответил я.
— Да-да, — подтвердил его приятель. — У нас в лагере сидел один. И религиозников сейчас тоже в уголовные лагеря сажают.
— Ну и дела, — сказал Серега. — Я в лагерях-то почти не бывал, все по тюрьмам. Уж и не знаю, что на свете творится. Давно их отделили, а потом вообще политических не встречал.
На очередной остановке вывели этап и в отсеках стало немного просторнее. Зэки устали за двое суток от крика, драк и вагонной качки и постепенно стали умолкать. Но в одной из камер какой-то зэк не унимался.
— Каспар, — обратился он к охраннику-узбеку с таким узбекским акцентом, что невозможно было отличить, кто узбек — конвойный или зэк.
— Я не Каспар, — грозно отвечал охранник. — Наручники надену.
— Каспар, — упрямо повторял зэк, — покажи жопу.
— Наручники надену, — огрызался охранник.
— На жопу, что ли? — спросил зэк.
Другие зэки присоединились к забаве и стали наперебой, передразнивая узбекский акцент, уговаривать конвойного снять штаны и показать жопу. Конвойный орал и хватался за пистолет, но ничего не помогало.
— Какой красивый жоп у тебе, Каспар, — говорил зэк. — Дай воткнуть разочек, люблю тебе, хороший.
Но и это надоело, вагон совсем было затих и вдруг… В Столыпин зашел милиционер. Не конвойный, нет, а просто милиционер, в голубой форме, который следит за порядком в городе. Тут поднялось что-то невообразимое. От рева и криков, казалось, рассыпется весь состав. Зэки барабанили в решетку и матерились наперебой. Давно они не видели милиционера — с последнего ареста, для многих несколько лет назад. Вспомнилось им и о свободе, и об аресте, и о погонях — словом, было от чего прийти в яростное возбуждение. Особенно расшумелись полосатики. Серегу они раздражали.
— Постучи им, — сказал он своему приятелю, — скажи, чтоб заткнулись.
Тот послушно заколотил в стенку, и шум у соседей стих.
— Что там за падла колотит в стену? — голос из камеры полосатиков не предвещал ничего хорошего.
— Потише немного! — крикнул Серегин кореш.
— Эй, ты, — ответил полосатик. — Ты думаешь, мерин, что говоришь? Я тебя, курву, зарежу в этапке.
— Кончай орать, — вмешался Серега. — Спать не даете.
— Серега, это ты, что ли? — отозвался зэк, обещавший зарезать его дружка. Голос стал ласковым, точно он обращался к самому до рому человеку на свете.
— Я, — лениво ответил Серега.
— Так мы ж негромко, Сережа, — все с той же любовью продолжал полосатик. — Но если тебе мешает, так мы можем потише.
Гомон наконец прекратился. Серега уснул, отвернувшись к стенке. Остальные в нашем отсеке тоже задремали, приткнувшись кто где. Серегин приятель достал из мешка затасканную тетрадку и стал листать. Сидел он рядом со мной, и я мог видеть все, что было на измятых листах. А были там выписки из книг, стихи, фотографии и открытки, а то и снимки голых женщин, невесть как попавшие в лагерь. Польщенный моим вниманием, зэк похвастал:
— У меня была лучшая тетрадь в лагере. Мне за нее две плиты[3] чая давали — не отдал.
Я подтвердил, что тетрадь и вправду замечательная. Мы разговорились. Парень ехал из тюрьмы, где сидел с ворами. Это кое-что значило.