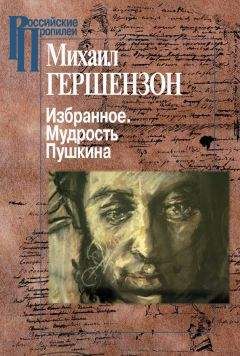Вяземский, Грибоедов и Пушкин знали ее уже в ее поздние годы. Вяземский только от стариков слышал о том, как мастерски Марья Ивановна в молодости исполняла роль фонвизинской Еремеевны{163} где-то на домашней сцене. Но князь Иван Михайлович Долгоруков, самый благодушный из русских поэтов{164} и самый романтический из русских губернаторов, был вхож в ее дом еще при Павле. Он в молодости страстно любил «театральную забаву», а у Марьи Ивановы часто устраивались домашние спектакли, и вообще в ее доме было весело; Долгоруков до старости с умилением вспоминал ту зиму – уже в начале царствования Александра, – когда он чаще всего выступал в спектаклях Марьи Ивановны, и те «веселости», которыми он наслаждался в ее приятном доме, ибо – «что более заслуживает места в воспоминаниях наших, как те часы, в которые мы предавались невинным забавам и одушевлялись одной чистой веселостью?» Он рассказывает в «Капище моего сердца»[165], как однажды в ту зиму играл он здесь роль первого любовника в комедии «Les châteaux en Espagne»[166]{165}, причем его партнершей была старшая дочь Марьи Ивановны; в этот вечер уже многие из зрителей знали, что он назначен губернатором во Владимир, он же этого еще не знал; а в его роли были такие два стиха, точно с умыслом рассчитанные на этот случай:
De quelqu’emploi brillant je puis me voir charger,
Et de nouveau peut-être il faudra voyager[167].
Едва он произнес эти стихи, зал огласился всеобщим рукоплесканием: совпадение было слишком забавно.
И дальше, по-видимому, легко и весело шла жизнь в доме Марьи Ивановны. Дом был огромный, семья большая, и верно много челяди. То было время, когда редко хворали, когда мало думали, но много и беззаботно веселились, когда размеры аппетита определялись шутливой поговоркой, что гусь – глупая птица: на двоих мало, а одному стыдно, когда званые обеды начинались в 3 часа, а балы – между 9 и 10, и только «львы» являлись в 11. Последние две зимы перед нашествием французов были в Москве, как известно, особенно веселы. Балы, вечера, званые обеды, гуляния и спектакли сменялись без передышки. Все дни недели были разобраны – четверги у гр. Льва Кирилловича Разумовского, пятницы – у Степана Степановича Апраксина, воскресения – у Архаровых, и т. д., иные дни были разобраны дважды, а в иных домах принимали каждый день, и часто молодой человек успевал в один вечер попасть на два бала. Балы и вечера у Марьи Ивановны были в числе самых веселых. Современник сообщает, что к ней можно было приезжать поздно, уже с другого бала, потому что у нее танцевали до рассвета; и нравились ее вечера еще щедростью освещения, тогда как в других домах с одного конца залы до другого нельзя было различить лиц. В эти зимы впервые явилась в Москве мазурка с пристукиванием шпорами, где кавалер становился на колени, обводил вокруг себя даму и целовал ее руку; танцевали экосез-кадриль, вальс и другие танцы, и бал оканчивался à la grecque[168] со множеством фигур, выдумываемых первою парою, и, наконец, беготней попарно по всем комнатам даже в девичью и спальни[169].
Но вот внезапно ударила гроза, музыка резко оборвалась, и танцоры в ужасе заметались: французы перешли границу, французы идут к Смоленску, Смоленск взят, – ужас и отчаяние! Наполеон идет на Москву, надо бежать, куда глаза глядят.
У Марьи Ивановны в это время были налицо все ее дети{166} – трое сыновей и пять дочерей. Все они родились между 1784 и 1806 гг. Старший сын, Павел, служил еще с 1803 года в кавалергардах; средний, Григорий, вступил в службу также еще до войны, в лейб-гвардии Московский полк; наконец младший, 18-летний Сергей, в эти самые дни, в июле, записался в московское ополчение. При Марье Ивановне оставались теперь только дочери: старшая, Варвара, в это время уже вдова после флигель-адъютанта А. А. Ржевского, павшего при Фридланде, и три девушки – Наталья 20 лет, и младшие – Екатерина и Александра; пятая дочь, по старшинству вторая после Варвары, по имени Софья, была с 1804 года замужем за московским полицмейстером А. А. Волковым и жила своим домом. Был еще жив и муж Марьи Ивановны – Александр Яковлевич Римский-Корсаков, по-видимому, уже очень пожилой, служивший когда-то, в семидесятых годах XVIII века, в конной гвардии, пожалованный Екатериною II в камергеры, а теперь почти безвыездно живший в деревне. Он был, говорят, очень богат, в молодости красавец, но не очень умен; во всяком случае, домом и детьми твердо правила одна Марья Ивановна. Сама она была урожденная Наумова, дочь Ивана Григорьевича, женатого на княжне Варваре Алексеевне Голицыной. В 1812 году Марье Ивановне было, вероятно, 47–48 лет. Все ее дети были рослые и красавцы, в отца и мать, а дочери славились бархатными глазами[170].
Через три дня после того, как в Москве было получено известие об оставлении Смоленска, 11 августа 1812 года, когда все церкви стояли отпертые, А. Г. Хомутова видела в Благовещенском соборе между другими своими знакомыми и Марью Ивановну Римскую-Корсакову[171] с ее юношей-сыном Сергеем, уже в ополченском мундире; «она молилась за двух других своих сыновей, уже находившихся в армии, из которых одному суждено было вскоре погибнуть», то есть за Павла и своего любимца Гришу. Судя по тому, что последнего его командир Дохтуров еще 29 или 30 августа отпустил из-под Можайска, где они стояли, на кратковременную побывку в Москву[172], можно думать, что Марья Ивановна с дочерьми оставили Москву только в последний день августа или даже 1–2 сентября. Она выехала, как и большинство видных московских семейств, в Нижний Новгород. Дочь ее Софья, вместе с мужем (Волковым) и детьми нашла пристанище у своей свекрови, в Саратове. Выезжая из Москвы, Марья Ивановна еще не знала, что 26 августа при Бородине пал ее первенец. В этом бою участвовали оба ее старших сына; второй, Григорий, остался невредим и позднее получил за этот день Владимира 4-й степени, а Павел, богатырь ростом и силою, участник Аустерлицкого боя, занесенный своей лошадью в гущу врагов, долго отбивался один и уложил палашом несколько человек, пока наконец – как рассказывали позже французские офицеры – выстрел из карабина не скосил его; тело его не было найдено[173]. Мы увидим дальше, что Марья Ивановна долго томилась неизвестностью о его судьбе; ей говорили, что он в плену.
В сентябре и октябре 1812 г. Нижний Новгород представлял необыкновенную картину: сюда переселилась вся богатая и вся литературная Москва. Здесь были Архаровы, Апраксины, Бибиковы и еще множество видных московских семейств, – и Карамзины, Батюшков, В. Л. Пушкин и Алексей Михайлович Пушкин, старик Бантыш-Каменский и его помощник по московскому Архиву, А. Ф. Малиновский, – словом, что называется, «вся Москва»{167}. «Город мал и весь наводнен Москвою», писал отсюда Батюшков[174]. Квартир не хватало, и «эмигрантам», как они сами себя называли, приходилось ютиться в тесноте; так, в трех комнатах жили: Екатерина Федоровна Муравьева с тремя детьми, Батюшков, И. М. Муравьев, Дружинин, англичанин, две гувернантки да шесть собак. Богатые люди и здесь, разумеется, находили способы устраиваться удобно; у Архаровых и здесь собиралась вся Москва, особенно пострадавшие, терпевшие нужду; а В. Л. Пушкин жил в избе, ходил по морозу без шубы и нуждался в рубле. Все были более или менее удручены гибелью Москвы и собственными потерями, многие семьи тревожились за участь мужей, сыновей или братьев, стоявших под огнем, но привычное московское легкомыслие брало верх, и вскоре здесь развернулась та же веселая и шумная жизнь, которую на время прервала невзгода, жизнь многолюдно– и шумно-застольная, бальная, разъездная и суетливая, с тем отличием против московской, что цыганская неустроенность и давка вносили в эти забавы смешную и веселую путаницу, придавали им пикантность своеобразия. Батюшков в одном позднейшем письме мастерски набросал ряд летучих сцен из этой жизни московского табора в Нижнем, – как московские франты и красавицы толпились на площади между телег и колясок, со слезами вспоминая о Тверском бульваре, как на патриотических обедах у Архаровых все речи, от псовой травли до подвигов Кутузова, дышали любовью к отечеству, как на балах и маскарадах московские красавицы, осыпанные бриллиантами и жемчугами, прыгали до первого обморока во французских кадрилях, во французских платьях, болтая по-французски Бог знает как и по-французски же проклиная врагов, – как на ужинах нижегородского вице-губернатора Крюкова В. Л. Пушкин, забыв утрату книг, стихов и белья, забыв о Наполеоне, «гордящемся на стенах древнего Кремля»{168}, отпускал каламбуры, достойные лучших времен французской монархии, и спорил до слез с И. М. Муравьевым{169} о преимуществе французской словесности. Алексей Михайлович Пушкин, по словам его вечного антагониста, В. Л. Пушкина, кричал в Нижнем еще громче и курил табак более прежнего, играл в карты с утра до вечера «и выиграл уже тысяч до восьми»; это о нем и ему подобных писал в те дни Карамзин: «Кто на Тверской или Никитской играл в вист или бостон, для того мало разницы: он играет и в Нижнем». Алексей Михайлович был ярый спорщик и любил донимать особенно своего благодушнейшего однофамильца; Батюшков кончает эту картину московско-нижегородской толпы портретом Алексея Михайловича, «который с утра самого искал кого-нибудь, чтоб поспорить, и доказывал с удивительным красноречием, что белое – черное, черное – белое, который вздохнуть не давал Василию Львовичу и теснил его неотразимой логикой». А Василий Львович грустил о потере своей новой кареты и книг, скорбел патриотически, но минутами и утешался, когда шалунья Муза дарила его новым вдохновением, или когда удавалось прочитать кому-нибудь свои стихи. В самый разгар московского разоренья, 20 сентября, он сочинял куплеты к жителям Нижнего, шесть куплетов, кончающихся одним и тем же рефреном, из коих первый таков: