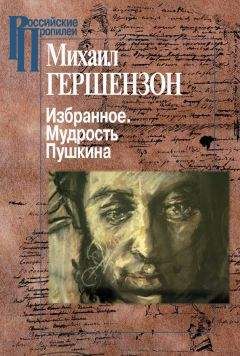II
В сентябре и октябре 1812 г. Нижний Новгород представлял необыкновенную картину: сюда переселилась вся богатая и вся литературная Москва. Здесь были Архаровы, Апраксины, Бибиковы и еще множество видных московских семейств, – и Карамзины, Батюшков, В. Л. Пушкин и Алексей Михайлович Пушкин, старик Бантыш-Каменский и его помощник по московскому Архиву, А. Ф. Малиновский, – словом, что называется, «вся Москва»{167}. «Город мал и весь наводнен Москвою», писал отсюда Батюшков[174]. Квартир не хватало, и «эмигрантам», как они сами себя называли, приходилось ютиться в тесноте; так, в трех комнатах жили: Екатерина Федоровна Муравьева с тремя детьми, Батюшков, И. М. Муравьев, Дружинин, англичанин, две гувернантки да шесть собак. Богатые люди и здесь, разумеется, находили способы устраиваться удобно; у Архаровых и здесь собиралась вся Москва, особенно пострадавшие, терпевшие нужду; а В. Л. Пушкин жил в избе, ходил по морозу без шубы и нуждался в рубле. Все были более или менее удручены гибелью Москвы и собственными потерями, многие семьи тревожились за участь мужей, сыновей или братьев, стоявших под огнем, но привычное московское легкомыслие брало верх, и вскоре здесь развернулась та же веселая и шумная жизнь, которую на время прервала невзгода, жизнь многолюдно– и шумно-застольная, бальная, разъездная и суетливая, с тем отличием против московской, что цыганская неустроенность и давка вносили в эти забавы смешную и веселую путаницу, придавали им пикантность своеобразия. Батюшков в одном позднейшем письме мастерски набросал ряд летучих сцен из этой жизни московского табора в Нижнем, – как московские франты и красавицы толпились на площади между телег и колясок, со слезами вспоминая о Тверском бульваре, как на патриотических обедах у Архаровых все речи, от псовой травли до подвигов Кутузова, дышали любовью к отечеству, как на балах и маскарадах московские красавицы, осыпанные бриллиантами и жемчугами, прыгали до первого обморока во французских кадрилях, во французских платьях, болтая по-французски Бог знает как и по-французски же проклиная врагов, – как на ужинах нижегородского вице-губернатора Крюкова В. Л. Пушкин, забыв утрату книг, стихов и белья, забыв о Наполеоне, «гордящемся на стенах древнего Кремля»{168}, отпускал каламбуры, достойные лучших времен французской монархии, и спорил до слез с И. М. Муравьевым{169} о преимуществе французской словесности. Алексей Михайлович Пушкин, по словам его вечного антагониста, В. Л. Пушкина, кричал в Нижнем еще громче и курил табак более прежнего, играл в карты с утра до вечера «и выиграл уже тысяч до восьми»; это о нем и ему подобных писал в те дни Карамзин: «Кто на Тверской или Никитской играл в вист или бостон, для того мало разницы: он играет и в Нижнем». Алексей Михайлович был ярый спорщик и любил донимать особенно своего благодушнейшего однофамильца; Батюшков кончает эту картину московско-нижегородской толпы портретом Алексея Михайловича, «который с утра самого искал кого-нибудь, чтоб поспорить, и доказывал с удивительным красноречием, что белое – черное, черное – белое, который вздохнуть не давал Василию Львовичу и теснил его неотразимой логикой». А Василий Львович грустил о потере своей новой кареты и книг, скорбел патриотически, но минутами и утешался, когда шалунья Муза дарила его новым вдохновением, или когда удавалось прочитать кому-нибудь свои стихи. В самый разгар московского разоренья, 20 сентября, он сочинял куплеты к жителям Нижнего, шесть куплетов, кончающихся одним и тем же рефреном, из коих первый таков:
Примите нас под свой покров{170},
Питомцы волжских берегов!
Примите нас, мы все родные,
Мы дети матушки-Москвы!
Веселья, счастья дни златые,
Как быстрый вихрь промчались вы!
Примите нас под свой покров,
Питомцы волжских берегов!
А 3 октября Батюшков писал Вяземскому о Василии Львовиче, что он «от печали лишился памяти и насилу вчера мог прочитать Архаровым басню о соловье. Вот до чего он и мы дожили!»[175]
Конечно, были в этой пестрой толпе московских эмигрантов и серьезные, искренно скорбевшие люди. Таков был сам Батюшков, горько насмехавшийся над людьми, весь патриотизм которых заключался в восклицаниях: point de paix![176]{171} Таков был И. М. Муравьев-Апостол, написавший вскоре затем замечательные, истинно-патриотические «Письма из Москвы в Нижний Новгород» (1813 г.)[177]{172}. Таков был Н. М. Карамзин, болевший душою за родину, томившийся своим нижегородским бездельем, называвший свою жизнь здесь ссылкой. Карамзину дорого обошлась его жизнь в Нижнем: у него здесь хворали все дети, и долго угасал шестилетний сын Андрей, скончавшийся в мае 1813 г.;аза месяц до смерти Андрюши от тревог жена Карамзина, Екатерина Андреевна, выкинула. Из-за болезни мальчика и из-за безденежья Карамзиным пришлось прожить в Нижнем до лета 1813 г.
Для Марьи Ивановны, привыкшей к довольству, простору и веселью, эта зима в Нижнем оказалась очень тяжелой. Ее мучила тревога и о муже, и о Сереже, и о Волковых, а главное терзали ее полная неизвестность о Павле и беспокойство о Григории, от которого подолгу не было писем.
Письма родных к Григорию Корсакову из погорелой Москвы живо рисуют картину города после разгрома, и чувства возвращавшихся на свои пепелища москвичей. Волков, бывший, как сказано, московским полицмейстером, по долгу службы вернулся в Москву – и с женою – вскоре по выходе из нее французов. 9 ноября, найдя оказию, Софья Александровна пишет отсюда Григорию: «Я уже пять дней в нашей несчастной Москве. Ах, Гриша, голубчик, ты представить себе не можешь, что Москва сделалась, узнать ее нельзя и без слез видеть невозможно этих руин. От каменных домов стены остались, а от деревянных печи торчат. Вообрази, какое чудо, что маменькин дом уцелел, а еще чуднее, – матушкин (т. е. свекрови) деревянный, в котором мы живем теперь, а слободы как не было – вся выгорела, в том числе и наш дом (т. е. собственный А. А. Волкова) со всем добром; деревню тоже всю разорили, и мы остаемся ни при чем». Она просила известий о Павле: «Признаюсь, его положение меня очень беспокоит».
Из письма Софьи Марья Ивановна впервые узнала, что ее дом в Москве цел. Этот дом – теперь здание 7-й гимназии, а раньше – Строгановское училище, как раз против Страстного монастыря{173}; его просторный вестибюль с широкой лестницей вверх часто воспроизводят на сцене в последнем явлении «Горе от ума»[178].