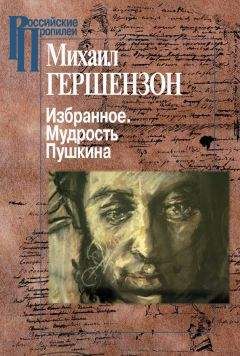Из письма Софьи Марья Ивановна впервые узнала, что ее дом в Москве цел. Этот дом – теперь здание 7-й гимназии, а раньше – Строгановское училище, как раз против Страстного монастыря{173}; его просторный вестибюль с широкой лестницей вверх часто воспроизводят на сцене в последнем явлении «Горе от ума»[178].
12 ноября Марья Ивановна писала Григорию, адресуя в штаб Дохтурова:
«Милый друг Гриша! Господи, как давно об тебе ничего не знаю; с тех пор как этот курьер привез мне об Малом Ярославце, от тебя после ни строки не имела. Ныне набрела на какого-то почтальона, который приехал из армии свеженький, зовут его Митропольский, и так мы его обступили, как будто он с того света. Он мне кланялся от Талызина, только я ему не верю. Он говорит, что корпус Дмитрия Сергеевича (Дохтурова) вместе в авангарде с Милорадовичем… Помоги вам Господь Бог поймать злодея этого, рода христианского истребителя. Ну, уж потрудился он над Москвой. Мне смерть как хочется съездить дня на три поглядеть на пепел московский. Вчера получила от Сони – она приехала в Москву, и Волков. Нельзя читать ее письмо без слез. Это, сказывают, ужас смотреть, что наша старушка Москва стала. Кроме трупов и развалин ничего почти нет; из 9000 домов осталось 720, в том числе и мой дом цел. Кроме околиц, стекла все выбиты от ударов, когда взлетел Иван Великий, то есть караульня и церковь, которая пристроена была к нему. Загажен дом так, что, Федор пишет, надо недели две, чтоб его очистить; в нем стояли 180 собак, и с ними 1-го батальона гвардии капитан жил, и спал на Варенькиной постели. В доме занавески ободрали, везде, где нашли, кожу, сукно, все содрали. Говорят, чужих мебелей натаскали, но все ободранных; дроги из-под кареты взяли. Людей, однако ж, не трогали, только тулупы отняли, и в наш дом приходило множество людей спасаться; говорят, слишком 1000 человек жило всякого рода, и все остались живы и здоровы. Вот сейчас опять Архарова прислала сказать, что еще есть приезжий из армии, сын их хозяйки, который тоже тебя видел. Что это за чудо, все тебя видят, а писульки нет, как нет. Прости, Христос с тобой, мой милый друг Гриша, сохрани тебя Господь Бог. Об Паше я к тебе уж не пишу».
Она действительно не утерпела и неделю спустя отправилась налегке в Москву, взяв с собой одну Наташу. 29 ноября она пишет оттуда: «Милый друг Гриша, голубчик мой родной, я приехала на неделю в Москву из Нижнего, чтобы видеть Соню и Волкова. Ехала с тем, чтобы прожить два дня, вместо того прожила 8 дней. Завтра непременно еду назад в Нижний, чтобы забрать всех своих, и недели через три приеду на житье в Москву, несчастную и обгорелую. Дом мой цел, но эдак быть запачкану, загажену, – одним словом, хуже всякой блинной. В ней стоял гвардейский капитан и 180 рядовых, стены все в гвоздях, стекла, рамы – все изломано, перебито; но всего страннее, что они оставили зеркала, ни одного не разбили. Как я нашла дом, то войти нельзя – да это уж, говорят, вычищено; Волков был тотчас после этих поганцев – на полу верно была четверть грязи, и все шишками, как будто на большой дороге осенью замерзло; окошки, рамы, стекла, все это вылетело вон от подрывов, которые были этими злодеями сделаны в Кремле. Итак, одним словом сказать, они древнюю столицу сделали, что в грош ее не поставили, камня на камне не оставили».
Марья Ивановна возвращалась в Нижний с намерением к Рождеству перевезти свою семью в Москву. Но в Нижнем она застала беду: Сергей был там – и в тифе; очевидно, он заболел в лагере и был отпущен к родным. За этой бедой пошла их вереница: едва Сергей начал поправляться, заболела тифом младшая девочка, Саша, а за нею и 20-летняя Наташа; старшая из дочерей, вдова Варвара Александровна, еще в Москве начала терять голос и покашливать, – теперь ее состояние ухудшилось, она явно была тяжело больна, хотя и на ногах. Марья Ивановна надолго застряла в Нижнем. От Григория письма приходили теперь еще реже прежнего. Дохтуров устроил ему перевод в гвардию, в Литовский полк[179], и он был со своим полком в Германии. В конце января (1813 г.) Марья Ивановна пишет ему: «Милый друг, Гриша, голубчик мой, ни одно письмо твое мне не сделало такой радости, как это. Я его получила вчера с кн. Сергеем Оболенским. Не ожидала, мой родной, знать о тебе; кн. Наталья мне его привезла, я ее расцеловала и от радости плакала, читавши твое письмо; я полагала, что я об тебе и Бог знает когда получу, – спасибо, мой милый, что ты с ним написал, Я все еще в Нижнем, который мне так несносен, как преисподняя какая; в нужде живу, в мерзкой квартире, трое умирали горячками, Наташа была безо всякой надежды, Сережа тоже, и Саша, но теперь, по милости Божией, они все уже здоровы; Наташа вчера изволила выступать на бале к вице-губернатору (т. е. к упомянутому выше А. С. Крюкову), который здесь имеет субботы, где все эмигранты московские отличаются, и мы в первый раз выступили с ней». Она пишет, что хочет на днях подняться всей семьей в Москву.
И в этом же письме пишет по-французски больная Варвара. Это – ее единственное письмо в нашем собрании, и, вероятно, вообще единственное, что от нее уцелело. Варваре Александровне было 28 лет, она рано овдовела и перед самым нашествием французов на Москву была вторично помолвлена за князя Владимира Михайловича Волконского, уже пожилого. Свадьбу отсрочили из-за московской беды, которую Волконский пережидал в своей казанской усадьбе; но свадьбы не будет – невеста умирала от горловой чахотки. Современница говорит: «Варвара Александровна была прекрасна собою: высокая ростом, статная, стройная, величественной осанки, и имела замечательно приятные глаза»[180]. Это письмо ее к брату женственно-нежно в своей задушевной грусти и шутке, даже в самом почерке, который необыкновенно красив. И вот все, что осталось от ее земного существа, один этот листок! Но в нем она еще и теперь жива, в нем не остыла живая теплота ее чувства. Разве это не чудо? Каждое чувствование человека, и каждая мысль есть в своем воплощении как бы дивный организм, – и этот организм бессмертен; время может разбить только его материальную форму, но не властно расторгнуть или сделать не бывшим неповторяемый строй чувств и идей, который мгновенно и раз навсегда возник в душе человека. Поэтому все золото, какое есть на земле, не может уравновесить цену этого бедного листка почтовой бумаги, бережно несущего через века бессмертную жизнь сознания. Те прекрасные глаза закрылись сто лет назад, но их бархатный взгляд все светит нам, как лучи давно угасших звезд. Так и телесный облик человека давным-давно умершего живет еще глубокой жизнью для дальнего потомка, мгновенно схваченный художником. Об этом говорит Я. Полонский в его недавно найденном стихотворении{174}: