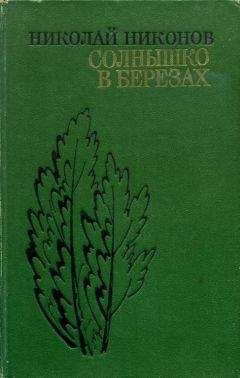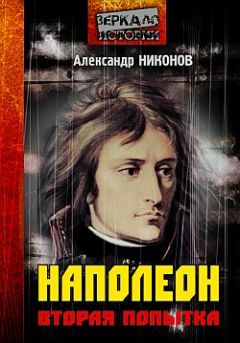Потом следовали тосты за гостей, за хозяйку, за хозяина. Лысые друзья лезли к нему целоваться. Я снова стал сыном генерала, толковал Лиде и соседке про нашу новую квартиру из пяти комнат, уже без предубеждения поглядывал на Лидиного папу, который сидел теперь с улыбкой полководца, выигравшего большое сражение, слегка покачивался, откидываясь, держа толстую папиросу, слушал речи собеседников ошую и одесную. Уже стоял за столом гвалт, звяканье ножей, вилок. Мосолов, изрядно охмелевший, тянулся ко мне с рюмкой, улыбался братской улыбкой, которая от хмеля стала еще добрее и проще.
Лида разрумянилась, угощала меня с некоторой даже гордостью, но все-таки я чувствовал какую-то холодинку в ней, которая никак не проходила, или, может быть, Лиде просто нездоровилось.
— Лидочка! Покажи, что тебе подарили? — сказала соседка слева, и все зашумели: «Конечно, конечно!» Наверное, захотели увидеть и сравнить свои подарки. Лидина мама вышла. «Только бы не приносили картину, — подумал я. — Как неуместна она сейчас, здесь, этим людям». И вообще я, конечно, дурак, надо было какие-нибудь духи, еще что-то. Ведь ждали-то генеральский подарок. Но картина явилась как раз первой, а за ней ворох всяких других вещей: материалы, альбомы, статуэтки.
— Боже мой, ведь это же Ливитан! — колыхалась соседка. — Какой раскошный багет!
— Замечательная рама! — похвалил еще кто-то.
К счастью, Лидин дядя предложил выпить за здоровье именинницы в новом году, а потом предложили танцевать. В соседней комнате загремела радиола. Я танцевал с Лидой и не испытывал уж ни того страха, как в первый раз, ни того восторга. Что же это такое? Лида на все отвечала кисло или старалась скрыть, но у нее плохо получалось. С кубышечкой Нэлей танцевать было хорошо, она была очень простая, и я так преуспел в танцах с ней, что, осмелев, пригласил и Олю Альтшулер. Оля Альтшулер! Только тут я понял, что такое настоящая красавица. Она отличается от простых смертных, как мед и нектар от тривиального сахара. Я почувствовал это, едва положив руку на ее упругую, ловкую и в то же время великолепно изогнутую талию, почувствовал вдруг даже как бы прекрасный вес ее стройного тела, его плавное, величавое движение, столь ладно подчиненное ритму, что сам подчинился ему, сомлел в наслаждении танцем с этой девушкой, более походившей на юную женщину-богиню. От Оли пахло сладкими пряными духами, и хотелось мне одного — лишь бы подольше был этот медленный танец.
Я тоже рассердился на Лиду. Думал, какой я чужой тут всем людям, комнатам, великолепному столу, Лидиному папе-вельможе, маме с зимними глазами, и Оле, и Нэле, и Мосолову… Но тут на меня обрушилась соседка, в парче, в окованных медью могучих формах: «Младой человек, раз вы не догадывайтесь, я приглашаю вас…» Она закружила меня в вальсе, притиснула к себе, сжимала руку, а я лишь безвольно подчинялся, удивляясь энергии и силе женщины, точно она ее нарочно демонстрировала. От нее тоже пахло духами, но ужасно, удушливо, она что-то говорила мне, я не слушал, был рад, когда пластинка заходила вхолостую. Лида улыбалась. Мосолов подмигивал. А дама явно решила веселиться, победно плюхнулась в кресло. Танцевали тут и еще какие-то женщины и, урывками, Лидина мама с желтолицым дядей. Несколько раз я замечал на себе ее внимательный изучающий взгляд. Он как будто оценивал все на мне — от ботинок до галстука — и останавливался на выражении неопределенного, недоверчивого внимания, словно бы вопроса или раздумья: «Что ты за гусь?»
Потом снова пригласили за стол. Подали горячее жареное мясо, и опять начались тосты, опять Лидин папа сидел в позе римского императора на триумфе, а Иван Селиверстович и Сергей Аркадьевич (так звали лысых дядей) с угодливыми улыбками рассказывали анекдоты, не забывая осушать свои рюмки. Я помнил, что мама велела мне пить не больше двух рюмок, но, конечно, выпил больше, хотя водка, чем дальше, становилась противнее. Есть уже не хотелось, несмотря на все изобилие. Я спрашивал Лиду, что с ней. «Так, — отвечала она. — Ничего…» Тогда я замолчал, ковырял вилкой в тарелке, попробовал мясо — есть не стал, хоть было вкусно, и подумал: хорошо бы сейчас встать и уйти. Так гордо уйти, и еще бы лучше, если б я был военный, с погонами, с портупеей, и увидел тотчас, как гордо и достойно я уходил, а они все смотрели, разинув рты.
— Выпей, — тянулся совсем лучезарный Костя.
— Давай, — я вдруг вспомнил читанное где-то, что водка — лучшее средство от печали. Налил и залпом выпил, не закусывая. Пусть Лида видит.
— Сслушай, а ты молодец! Оказывается, боксер еще…
— Кто боксер? — оживилась Лида.
Костя показал рюмкой.
— Правда? — недоверчиво посмотрела она. — А почему не говорил?
— Не хотел и не говорил…
— Какой ты скрытный и вообще… Ну, пойдемте танцевать.
И мы снова танцевали, и снова осаждала меня бронзовая дама, теперь она уже сильно опьянела, висла на мне, предлагала шепотом встретиться, говорила, что она метрдотель в ресторане «Восток» (где я когда-то обедал с англичанами) и что мне все там будет… Я еле удерживался, чтоб не оттолкнуть ее, она была мне противна теперь особенно и своими духами, и перетяжками корсета под платьем, и круглыми жирными складками, которые я боязливо ощущал под рукой, и своим жестяным, бронзовым платьем.
В соседней комнате играли в карты. Слышался громкий голос дяди и другие голоса: «Кто хвалит? Бубны… Сорок! Еще сорок! Двадцать… Пас…» — «Коля, мне к Восьмому марта нужно новое платье, а Лидочке туфли…» — это ее мама. «Будет…» — последовал неторопливо уверенный ответ.
Я засобирался домой. Обещал матери прийти в два часа, а было уже половина третьего… Мосолов и Оля засобирались тоже, а Нэля, оказывается, незаметно ушла. Она жила в этом же подъезде.
Лида вышла вместе с нами, и, когда Мосолов и Оля спустились ниже на этаж, я спросил, взяв ее за руки: «Что?» — «Тише, не дави мне руку… Слышишь… Восьмиклассник…»
И я сразу отпустил ее, мне стало жарко и стыдно. Так вот оно что! Значит, Мосолов проболтался. А чем он виноват? Ведь врал-то я, и я его не предупредил.
— Что теперь?.. — спросил я как-то пьяно. — Все?
Она молчала.
— Все? — повторил я. — А знаешь почему…
— Знаю, — сказала вдруг Лида. — Я это недавно, кажется, поняла…
— Правда?
— …
Я вдруг обнял Лиду и, прижав к себе, неловко поцеловал куда-то в щеку и в нос. Она резко вывернулась, оттолкнула меня: «Ты с ума сошел…» Я хотел обнять ее снова, но она уперлась мне в грудь и сказала голосом своей мамы: «Толя, не глупи… Слышишь?»
— Ну, тогда я пошел… — сказал я, опуская руки. — Спасибо тебе…