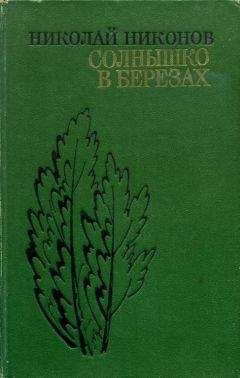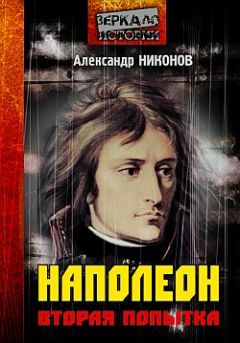Дома я принялся незамедлительно вкладывать в кулак вес своего тела. Это было очень трудно, не получалось, но я бил и бил, пока не почувствовал: есть! — ибо груша подскочила к потолку. После серии таких ударов она распоролась. Я зашил грушу, продолжал «работать» справа и слева. Иногда в комнату заходила мать, тяжело вздыхала, качала головой. Как она не любила этот мой снаряд и бокс, всякий раз тревожно оглядывала меня, когда являлся с тренировки, и каждый раз я слышал одно и то же: «Когда ты это кончишь? Не смей больше ходить туда. Зачем этот хулиганский спорт? Будешь драчуном, пьяницей, покатишься по наклонной». А я отвечал, что ходить буду, что бокс не драка, что перчатки мягкие (можете сами убедиться), что если б он был вреден — его бы запретили. В присутствии матери я либо прекращал тренировку, либо, наоборот, трудился над грушей изо всех сил — хотел показать, какой я ловкий, какой у меня удар. Махнув, она уходила. Я продолжал осыпать грушу ударами до седьмого пота, чувствовал словно бы, как тело становится жестче, кулаки — крепче, ноги — прыгучее, бил до изнеможения, в поту валился на койку. Впереди еще были вечерние сто пудов.
Одно — удар по покорно мотающейся груше, другое — по прыгающему, засыпающему тебя ударами противнику. Здесь я никак не мог сориентироваться, хотя отбивался все увереннее, смелее наступал. Коробков смотрел на меня глазами раздразненной собаки, старался бить беспощаднее, попадать в самые больные места: в скулу, в нос, в солнечное сплетение, бил тыльной стороной перчатки. Лежняк по-прежнему словно не видел ничего, а моя неуверенность постепенно переплавлялась, перерастала в спокойную и, может быть, даже злобную силу. Коробков ее чувствовал, раза два еле удерживался на ногах от встречного крюка, я был сильнее его, мне нужно было только что-то словно бы найти в себе.
И вот он, день торжества! Он обязательно бывает. Он бывает у каждого, если способен терпеть, ждать, бороться. Я послал Коробкова в нокдаун так, что лопнула перчатка. В следующий раз повторил удар — теперь был нокаут. Лежняк перестал говорить об уходе. Коробков перестал важничать. Случилось самое главное — я нашел свою забытую первобытную смелость. Она отыскалась под слоями того, что поколения бабушек и мам внушали моим предкам, под всеми этими: «Не тронь никого, отойди, не связывайся, не поднимай руку первый». И опять это было разрушение бабушкиных заповедей, никуда я не мог от этого деться. Теперь я стал выходить на ринг спокойно, это уже не были встречи запуганного домашнего парнишки с матерым уличным бойцом. Бой шел на равных. Не скажу, чтобы я намного превзошел Коробкова. Бился он здорово, и талант боксера — если такой бывает — у него был отличный. Просто я перестал его бояться, и он это усвоил, уважая мой удар. А я все-таки никогда не был боксером по призванию. Наверное, попал сюда лишь ведомый инстинктом, чтобы только обрести себя, и здесь с меня пооббили проклятую трусость, живущую, наверное, в каждом в большей или в меньшей степени. Трусость и робость, из которых растет все подлое, унижающее человека, начиная с заискивания перед школьными задирами до угодливых улыбок вышестоящему лицу. Ах, эти улыбки, за которые подчас себя ненавидят, чувствуют униженными и придавленными — и все-таки улыбаются. Губы так и тянутся сами — только не подумайте, что я против улыбок. Я только против таких, а если кому нравится, пусть улыбаются и так, пусть…
С Лидой мы уже ходили и на «Марицу», и на «Сильву», и на «Табачного капитана», на «Травиату» в оперу, а вот сегодня идем на «Риголетто». «Господи, — молился я, — скорей бы эти театры куда-нибудь уехали, на какие-нибудь внеочередные гастроли». Каких невероятных усилий стоило мне добывать деньги на спектакли, тем более что я, как сын генерала, сами понимаете, не мог вести Лиду на галерку — приходилось брать дорогие места в партере, и в первом ярусе, и в ложах бенуара. Трудно было и приобретать билеты. После войны изголодавшийся по театру народ валом валил на все спектакли, билеты можно было достать, лишь выстаивая непомерно длинные очереди. В фойе театров не было той борьбы, подобной игре в бейсбол, которая кипела у касс кино. То ли народ сюда ходил другой, респектабельный, то ли к театру такие, как я, питали почтительность и сама атмосфера прохладных вестибюлей с колоннами, афишами, портретами артистов внушала ее. Подчиняясь этому, я вставал раным-рано, бежал к театру, занимал очередь, чинно стоял вместе с какими-то интеллигентами в поношенных пальто с шалевыми воротниками, большеглазыми девочками-театралками, старушками, от которых пахло, нафталином и молью. К полудню подходил к окошечку кассы, подавал две красные бумажки по тридцать рублей, получал два желтоватых билета. Плелся домой, и были одновременно усталость, удовлетворение, размышления о будущем походе в театр, угрызения совести, что опять я играю эту фальшивую роль, вот занял деньги, истратил и как быть дальше.
Лида не знала ни моих финансовых, ни моих моральных затруднений.
«Ой, как хорошо! Какой ты молодец! Я никогда еще так близко не сидела!»
Она очень любила театр, воспринимала его восторженно, приходила туда возбужденная, нарядная, сговорчивая, и за одно наслаждение видеть ее такой, сидеть с ней рядом, гулять по коридорам в антрактах, гордясь ею (на Лиду смотрели многие), покупать ей что-нибудь в буфете — ради этого я ходил в театр. А в зале большей частью скучал, сидел с равнодушным видом и осаживал незаметно свои резвые «швейцарские». Не знаю и сейчас — таково ли было качество спектаклей или я не созрел тогда до их восприятия, но меня лишь вгоняли в скуку бутафорские фанерные стены, картонные деревья, ненатуральные голоса актеров — точно так говорили наши школьные трагики Зина и Васила. Раздражали заламывания рук, когда локти торчат выше головы, трагические выбегания на край сцены с припаданием на каждом шагу, журавлиная поступь балерин, их мучные, безжизненные лица и это пьяное: «Ну, пощщему я в тебя такой влюбленный?» Пронзительные вопли перед появлением на сцене, фальшивое сверкание глаз, поддельные цыгане с поддельными плясками, где в каждом шаге видна балетная школа, запорожцы, скачущие в фантастической ширины шелковых штанах, — все потрясало своей вычурностью, манерностью, неискренностью, зато я открыл в себе одно не слишком нужное, даже, наверное, вредное качество: оказалось, я люблю и принимаю только подлинное, естественное, и так было раньше в моей прошлой жизни, и так было далее — всю жизнь. Когда я смотрел репродукцию Моны Лизы, почти мучительна была мысль, что где-то есть подлинная Мона Лиза, написанная самим Леонардо да Винчи, когда касался мраморной копии Венеры, всегда думал, что есть и подлинная, может быть, увидев подлинную, обязательно думал бы о той женщине, что стояла обнаженная перед неведомым ваятелем и кто она была: рабыня, служанка, благородная матрона или лукавая гетера — кем была, если скульптор отважился взять ее за земное воплощение богини. Люблю подлинное, даже в мечте, и эта любовь постоянно напоминала мне о моей фальшивой роли, где я был вдобавок и плохим актером. Единственное подлинное — эта девочка с румянцем удовольствия на удлиненном овале щек, и смотреть, как у нее блестят глаза, как она вздыхает и улыбается, хохочет, вытирает слезы, бессознательно отдаваясь ходу действия, было для меня тем настоящим, что я искал в театре. Она смотрела на сцену — я смотрел на нее, думал, что сделать, как поступить, чтобы опять прийти сюда, увидеть, как Лида радуется.