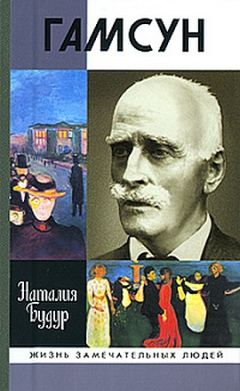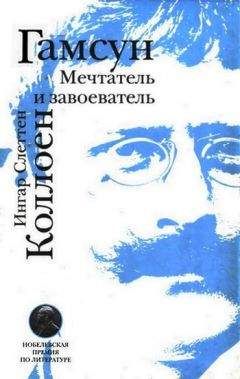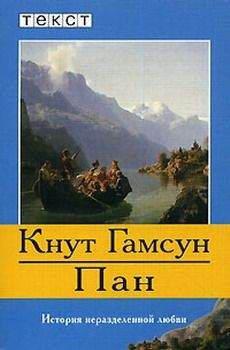«4.3.1966.
Милый мой, дорогой Туре.
Лежу и думаю о прошлом, и мне кажется, что я совсем недавно увидела тебя в первый раз. А теперь ты тоже уже немолод и, по-моему, начинаешь размышлять, куда девается день за днем. Ты испытал много неприятностей в жизни, но все-таки держался достойно, так, по крайней мере, казалось со стороны. А потому я желаю, чтобы никакие катастрофы и несчастья не коснулись тебя и твоих близких в будущем и чтобы ты всегда встречал жизненные трудности не теряя самообладания.
Любящая тебя мама».
Следующие два года я продолжал получать от нее письма, но рассказ о ней мне хочется закончить именно этим письмом.
Она верно рисует свое душевное состояние, когда ей просто не хватало сил встретить конец с той детской верой, которая была у нее когда-то. Ее ясный ум то и дело возвращался к тому, что она теперь воспринимала как одну из загадок творения Господня — рождения, жизни, смерти и вечности, в которой тебя уже не будет. Мало утешительного.
Сейчас, когда я пишу это, прошло двадцать лет с тех пор, как она умерла. Она умерла ночью во сне 4 августа 1969 года. С нею никого не было, она не чувствовала себя больной. В тот день, бывший также и сто десятым днем рождения отца, ей подали в кровать чай с бутербродами, и Марианне с Тургейром и Региной принесли ей букет полевых цветов, сам же я в это время еще летел в самолете, возвращаясь после гамсуновских чтений в Хамарёе…
Наутро Арилд пришел к нам, пожал всем руки, и мы все поняли…
Но сегодня я знаю больше о последнем годе ее жизни. Знаю, что она обрела покой и нашла утешение в частых разговорах с нашим близким другом, приходским пастором в Гримстаде Карлом Торпом. Она любила этого пастора, у которого много лет был приход в Хамарёе. А потому их разговоры велись в свете воспоминаний, и они находили общие точки зрения и общие толкования, когда он читал ей Библию. И Торп был доволен. Он произнес надгробное слово над ее могилой, и никто не покинул этого мира с более сердечным напутствием на будущее, чем моя мать.
44
Должен ли я теперь, после смерти моих родителей, продолжать это своего рода жизнеописание, должны ли последующие годы быть описаны в ином свете, исходя из другой действительности? Они оба больше не существуют как живые свидетели прошедшего времени. Они больше не принимают прямого участия в моей жизни, как принимали, пока были живы, но стали мне еще ближе благодаря письмам, которые я здесь привел.
Я отказываюсь от такой попытки. Частные обстоятельства в жизни художника, его мнения, его работа, его привязанность к времени, часто имеют большее значение для него самого, чем для других. Здесь все дело в соотношениях. Только в связи с чем-то более крупным у меня появилось чувство, что я и сам могу что-то дать, хотя все можно было бы сделать гораздо лучше.
Я долго не мог расстаться с военными годами не только во время последней войны, но и спустя много лет после нее. Для меня они имели совершенно особое содержание и составляли большую часть моей жизни.
Раскаяние? Этот вопрос стоял перед всеми нами. Начиная с обращения церкви к Управлению судами и кончая мнением простых людей о том, что считать справедливым.
Ты раскаиваешься?
Человек, совершивший убийство или какое-нибудь преступление, обязательно должен раскаяться. Вор должен раскаяться в том, что он украл, и если человек сделал глупость, ему тоже есть о чем пожалеть. И так далее.
Но требование покаяния должно иметь предел, который устанавливает сама жизнь. Что достигается, если сломлена твоя гордость? Можно ли раскаиваться в том, что ты таков, каков есть и каким был? Что такое раскаяние?
У меня было время пофилософствовать на эту тему. Есть судьба. Я вижу себя в дальней перспективе, начиная с ранней юности. Я вижу случайности. Если бы у меня не было такого хорошего и интересного учителя немецкого языка, когда я учился в средней школе в Эурдале в Валдресе, я бы, наверное, иначе относился к Германии, как, например мои сестры, которые тоже несут наследие отца.
Паскаль говорит: «Все люди стремятся быть счастливыми, Это мотив действий каждого человека — даже того, кто идет и вешается».
Меткий парадокс старого циничного философа.
Я никогда не мог пользоваться словом счастье в связи с чем-то, что имеет протяженность во времени. Счастье — это проблеск, измеряемый в секундах. Но когда я оглядываюсь на свою жизнь, которую время покрыло патиной, и, таким образом, безусловно, приукрасило, — то все чаще думаю об удовлетворении, которое я испытывал почти всегда, занимаясь тем, что меня интересовало: своей живописью и своими скромными литературными трудами. Поэтому, естественно, что я выбрал материал, который мне особенно близок. Я написал биографию отца в разных изданиях, предисловия к новым изданиям его произведений, делал инсценировки для радиотеатра по его романам и выступал с докладами о нем по всей Норвегии и за границей.
Но все-таки я прежде всего художник. И я никогда не чувствовал себя более счастливым — здесь я решусь использовать это слово, — чем стоя перед мольбертом и понимая, что работа мне удалась.
То, что несколько лет назад мне как каприз, не более странный, чем все остальные, взбрело в голову написать три романа сразу один за другим, я уже пробовал объяснить в начале этой книги. Живопись сродни литературе. И у меня была потребность «литературно» проиллюстрировать некоторые мысли, для которых я не мог найти точного выражения в живописи. Это напряженная и трудная работа, но и она принесла мне много радости.
Здесь, в нашем доме на Гран Канария, на книжной полке стоит старое издание собрания сочинений отца. В томе, который начинается с «Голода», отец написал:
Дорогой Туре!
Работа — это счастливое колдовство!
Кнут Гамсун Нёрхолм, 10 ноября 1942.
Его собрание сочинений будет стоять там и тогда, когда в будущем один из моих детей займет этот дом, и слова отца, адресованные мне, будут читать и помнить так же, как помню их я.
Нёрхолм, весна 1990.
С чего я начал, к тому и возвращаюсь. Когда я снова увидел дом своего детства, вернувшись туда весной после зимнего отсутствия, мне показалось, что я вижу совсем новый Нёрхолм.
И я хочу рассказать последнюю историю, свое го рода сказку о Золушке, посрамившую все предсказания. Это принесло мне облегчение, и я поверил в справедливое разрешение трудностей, с которыми мама, Арилд и Брит боролись все послевоенные годы. Однако я сначала приведу отрывок из маминого письма Сесилии, написанного тогда, когда все выглядело безнадежно. Она пишет об адвокате Верховного суда Сигрид Страй: