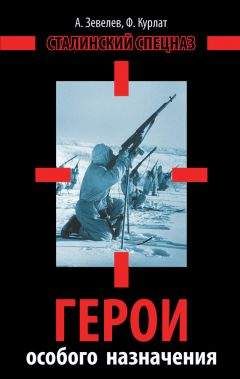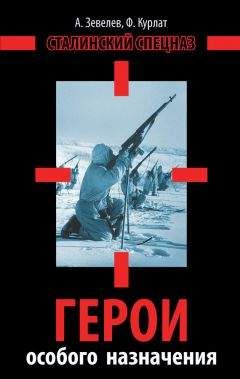Вагоны санитарного поезда были утрамбованы лежачими и сидячими ранеными, сестры и санитары переступали через людей. И уже попрекала себя Мария: «А как ему помощь потребуется?.. Может, ему полегче было бы, коли я поблизости, где-нибудь за бугром или уж, шут с ним, в яме какой…»
… Там, на станции, в чаду и пламени кромешном, все творилось само, без ее воли: Ванюшкин эшелон вырвался из-под воздушного налета — успел, а вот санитарному не удалось — сильная бомба впереди паровоза разворотила путь — машинист еле успел остановить — всеми тормозами! И начал санитарный метаться от одной стрелки до другой, словно конь в горящей конюшне, — гудел, храпел, задыхался и летел мимо станционного здания на полном ходу туда-сюда раза четыре, а то и пять. Хваткая и упорная бригада была у того паровоза, не хотела отдаваться врагу и не хотела отдавать ему своих раненых…
И пока состав так яростно метался по железным путям, баб и женщин на той станции искромсало бомбежкой немало. Тут и железнодорожники хватили своего лиха, и милиция, и зенитчики… Мария перебегала от одной сраженной женщины к другой, узнавала их или нет, слова говорила, трудилась в крови и увечьях, а если нет — закрывала глаза успокоившимся навеки. Как-никак у нее это была не первая бомбежка — вторая. Она теперь знала: кричать да метаться не надобно. Надо, как капитан-матерщинник говорил: «Заткни свою телу вместе с задницей куда-нибудь! А голову лучше бы заткнуть… еще подальше! И надо успевать делать дело! Дело делать! Дело!»
Как бомбежка утихла, ремонтники начали чинить путь, рельсы-шпалы заменяли, стала Мария помогать стаскивать раненых к вагонам санитарного. Там артачились, кричали, брать не хотели: «И так некуда! Да и не армейские эти женщины!», «Вот окаянные несмышленые…». А тут появился носатый такой, лохматый, на старого льва похожий, — в пожарах-то как днем видно, даже лучше, — их самый главный врач! Как зарычит — так раненых женщин всех до одной, да и мужчин с ними, распихали по вагонам в один момент, как могли. И ее, Марию, заодно взяли, потому что у самой подножки она сомлела и упала без сил и сознания… Опять этот лохматый распорядился — ехать ей в последнем вагоне с хвостовым кондуктором… А тот кондуктор сам еле живой…
Легок на помине — в картузе, разорванной черной шинели, появился в дверях кондуктор, похожий на кочегара.
— Забыл спросить, милая, как тебя звать? — с отдышкой басом спросил он.
— Мария, — она сейчас по облику, черноте и ожогу на лице ему как раз под пару приходилась.
— Так вот, Мария… — и замолк.
— Что скажете?
— Минут через десять поезд наш остановится в поле перед станцией. На короткую остановку остановится.
— И что тогда? — она подумала, высадят.
— Поможешь?
— Чего не помочь.
— Две ваши, провожательницы станционные, из тяжелораненых, померли. И еще трое военных — два солдата и командир — преставились; пять, значит. Главный врач сказал, хоронить всех вместе. В одной могиле.
— Оно… Само собой… Конешно… — согласилась Мария, сухим комом тяжесть стояла в груди, в горле — ни сглотнуть, ни выдохнуть. Хотела заплакать, а не получилось. Запеклось.
Колеса отстукивали забавные ритмы, из которых можно было смастерить все что угодно. Была ранняя весна 1943 года. Мне уже исполнилось девятнадцать. С назначением в кармане я направлялся на Урал, в танковый корпус. Мне строжайше предписывалось вступить в высокую должность командира взвода отдельного разведывательного батальона. Самое страшное в моей жизни, казалось, было позади — это военное училище! На гимнастерку старого образца (с отложным воротником) прикрепил новые, недавно учрежденные золотые погоны с двумя маленькими звездочками. И черт был не страшен, и все моря были нам по колено…
Разделенный на отсеки вагон с боковыми полками был почти пуст, и в его темнотище изредка возникали и тут же исчезали молчаливые тени.
На полустанке за окном вагона послышались приглушенные девичьи голоса. Хлопнули двери. На ощупь вошли две небольшие фигурки. Тихо переговариваясь между собой и от страха хихикая, они постояли в проходе, привыкая к темноте. Вот уже собрались было устроиться в ближайшем к двери отсеке, но в последний момент та, что, видимо, была побойчее, что-то заметила, взяла подругу за руку и потащила ее за собой.
— Вот туточки давай… Человек человеку не помеха. Правда? — спросила она меня.
— Садитесь, девочки, садитесь, — я охотно пригласил их.
Они сели напротив. Та, что побойчее, все время тараторила, а ее подружка держала маленький чемоданчик на коленях и помалкивала.
— Хоть бы синюю лампочку ввинтили, а то ведь впотьмах и влюбиться можно… черт-те в кого, — старалась вовсю та, что побойчее.
Я погремел спичечным коробком и спросил:
— Зажечь?
— Не надо. А то еще от красоты вашей ослепнем.
— Далеко ли путь держите, девочки?
— Да какие мы девочки, — засмеялась бойкая, — мы старушки. Правда, Клава?
— Вот так, значит, Клава! А вас как зовут?
— Зовут зовуткой, а величают уткой. Угадайте… — напропалую кокетничала бойкая.
— Садитесь рядом со мной — сразу угадаю! — сказал и сам удивился собственной прыти.
— Еще чего!.. Вот если угадаете, сяду.
Я наклонился вперед и в темноте случайно взял за запястье ту, что помалкивала. Тихая Клава сразу потянула руку к себе и, как одним словом, выпалила:
— Ой, ее Настей зовут — Анастасией… — голос был такой испуганный и проговорила она так поспешно-сбивчиво и трогательно, что уже созревшее было крутое решение пересадить к себе на лавку бойкую вдруг само собой поколебалось и появилась свойственная настоящим мужчинам раздвоенность.
Решительно осмелев, я заявил, что две такие красотки не могут сидеть рядом, когда напротив расположился человек, отправляющийся на фронт. Настя рассмеялась, как смеются артистки в оперетте:
— Тогда чего же это вы на восток катите? Фронт ведь как раз в другую сторону.
— У меня и там и там фронт! — брякнул я, все-таки соображая, что несу какую-то околесицу.
— А что, может, и вправду мы красотки. Я, например, — брюнетка! А Клава — красотка блондинка! Вам какие больше нравятся?
— Да ладно тебе, Насть, — с укоризной попыталась остановить ее подруга.
Я чиркнул спичкой, и пламя в первое мгновение ослепило. В следующее — я разглядел девушек: они обе были помладше меня. Бойкая действительно чернявая и впрямь похожая на утку, с прямыми стрижеными волосами, она уперлась в меня взглядом, словно старалась просверлить, а потом вдруг ахнула! Я понял, что это не я на нее произвел впечатление, а золотые погоны. Их только-только ввели, и погоны еще не вошли в обиход. А ее подруга только мельком глянула и еще крепче прижала к себе картонный серый чемоданчик. Мне пришлось перехватить спичку, чтобы дать ей догореть до конца, а освободившуюся правую приблизил к тихоне. Та с затаенностью глянула на меня, и в этом взгляде почудилась надежда на то, что она может понравиться больше, чем бойкая Настя. Но на всякий случай она все-таки вдавилась в стенку.