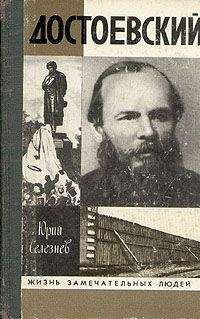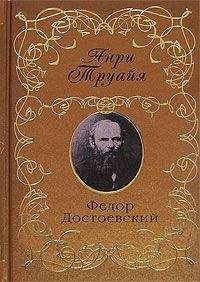Достоевский представлялся Анне Григорьевне человеком старым — ведь с тех пор, как она его помнит, он всегда был для нее известным писателем, а это уж ого-го когда было — лет десять назад, не меньше, — почему-то толстым, с брюшком даже; он, конечно, окружен боготворящей его семьей — иначе и быть не может, если уж они с отцом так любят его, то как же должны любить и почитать его родные! — и толпой поклонников, предупреждающих каждое его желание, берегущих его от разных напастей и неприятностей. Человек он, безусловно, богатый — среди ее знакомых были и печатающиеся в журналах, и вполне безбедно существующие на гонорары, а он ведь не чета им — он гений и вон уж сколько написал.
И все-таки пусть при такой его жизни ее помощь ему будет, конечно, только малой каплей, но все же она счастлива, что он хоть в чем-то нуждается, потому что иначе ей не выпала бы такая радость — видеть его и помочь ему. И пусть, пусть это только малость, только капля, но все-таки это капля того великого, того вечного, святого дела, которое он творит и о котором сама она еще вчера, еще час, несколько минут назад смела только мечтать.
Она была крайне удивлена, подойдя к тому дому, на углу Малой Мещанской и Столярного переулка, принадлежащему купцу Олонкину, который указал в адресе Ольхин: невзрачный, даже мрачноватый, трехэтажный, самый обыкновенный дом — скорее в нем мог бы жить Раскольников, но чтоб Достоевский?.. Она поднялась по шаткой лестнице, показавшейся ей знакомой, хотя она никогда не бывала здесь, на второй этаж, позвонила в 13-ю квартиру — звонок тоже как бы что-то напомнил ей; дверь открыла пожилая женщина — должно быть, служанка в где-то уже виденном ею драдедамовом платке на плечах, и тогда мелькнуло: «Господи, да это же все из «Преступления и наказания» — и дом, и лестница, и звонок. Вернее — в «Преступлении и наказании» отсюда...» Не успела снять пальто — открылась дверь в прихожую, и появился какой-то молодой — ее ровесник — брюнет, взлохмаченный, с голой грудью, в распахнутом халате и туфлях на босу ногу — увидел ее, вскрикнул и исчез. Потом вышел пожилой, даже почти старый, среднего роста мужчина — неужели это и есть сам Достоевский? Он, правда, не толст и без брюшка, но все-таки он представлялся ей другим... более величественным или уж значительным, что ли... А он неказист, волосы напомажены и гладко приглажены, будто в парике, так неестественно, и смотрит странно, загадочно; увидела, глаза разные — один темный, то ли карий, то ли болотный, другой заметно больше и зрачок во весь глаз — даже страшно и... неприятно от такого взгляда. И лицо — бледное, болезненное, подергивается будто в судорогах или от постоянной брезгливости, кажется, ужасно злое. Неужели же писателю нечего надеть, кроме изношенного синего жакета? А воротничок и манжеты белоснежные — странно все... Он сухо пригласил ее в кабинет и тотчас вышел. Она осторожно огляделась: комната довольно большая, в два окна, но сейчас хоть солнце веселит, а в хмурые дни и вечерами здесь, должно быть, жутковато — так вдруг ощутилась всем телом подавленность от тишины и сумеречности углов. Мягкий диван, покрытый непонятного от времени цвета материей, круглый стол с лампой, зеркало в черной раме, нарочно его, что ли, так неправильно поставили? На окнах две прекрасные китайские вазы, в углу простой письменный стол с двумя свечами, портрет худой женщины на стене — наверно, жена... Неужели так можно жить Достоевскому?.. И еще писать при этом... Служанка принесла почти черного чаю, потом пришел и Достоевский. Анна Григорьевна, чтоб хоть чем-то заняться, потому что он молча начал расхаживать по комнате, закуривая папиросу, нервно гася и тут же закуривая новую, одну за другой, принялась пить чай. Он вдруг предложил ей закурить, если хочет; она, с удивлением поморщась, сказала как можно спокойно, что не курит. Он кивнул машинально и продолжал ходить по комнате. Потом ни с того ни с сего заявил, что он болен эпилепсией и на днях у него был сильный припадок — вот упал неудачно, глаз ударил, оттого теперь у него глаза сделались разные и, может быть, так и останутся. Она инстинктивно вобралась в себя, не зная, что подумать о неожиданной и неприятной ей откровенности — или, может, цинизме, — зачем он все это рассказывает, а о работе ни слова? И что ответить ему или вовсе не отвечать? Затем, набегавшись из угла в угол и накурившись так, что ей самой стало дурно, он вдруг нервно заговорил о том, что нужно еще посмотреть, получится ли что, он-то убежден, что ничего таким образом не выйдет, но, может быть, все-таки попробовать? Потом наконец предложил продиктовать на пробу немного и затараторил так быстро, что она не успевала расслышать, не то чтобы записать. Она попросила диктовать помедленней, он не то обиделся, не то разозлился, подошел, чуть не вырвал листок, посмотрел на таинственные значки, ухмыльнулся как-то нехорошо — и чего, мол, дурак, только время теряю, но предложил перевести. Придрался к какой-то несчастной точке, которую она забыла поставить, потому что ее просто распирала неприязнь к этому человеку, которого она так обожала, которому так хотела помочь, а он скверный, плохо воспитанный, раздражающийся по пустякам человек... На прощание он еще и умудрился сказать ей какую-то пошлость насчет того, что рад, что она девица, поскольку не запьет...
Когда она наконец оказалась на улице, она даже содрогнулась от того неприятного, тяжелого ощущения, которое охватило ее сразу же, как только она вошла в его квартиру и которое с каждой минутой росло и усугублялось. Она не знала, что ей теперь делать, как сказать об этом Ольхину, ведь он понадеялся на нее и предупредил, что Достоевский весьма мрачный господин, но ведь не до такой же степени! Она знала одно: к нему она больше не пойдет, это выше ее сил. Она вспомнила вдруг, что давно не была у родственников — они жили недалеко отсюда, — и решила зайти к ним. Не выдержала, да и они сразу поняли — с ней что-то стряслось неприятное; рассказала о своих впечатлениях, услышав в ответ, что Достоевский — об этом все знают — человек действительно ужасный, а ходить к нему, тем более молодой девице, — значит компрометировать себя, да и небезопасно: он ведь десять лет каторги заработал, кажется, за убийство собственной жены, — ну, конечно же, он ведь и сам не постеснялся признаться в этом публично — в «Записках из мертвого дома»-то. А? Какой цинизм все-таки...
Душа ее пребывала в неизвестном еще ей самой смятении. Ей сделалось вдруг ужасно обидно и больно за ее долгое обожание этого человека, оказавшегося недостойным высокого чувства: на ее глазах, в одночасье, рушились сложившиеся годами, казавшиеся незыблемыми идеалы. Конечно, кто заставляет ее обожать именно его? В конце концов он не виноват в том, что не соответствует тому образу, который придумался, примечтался ей в девических ее снах наяву, да, может, и не сам он такой, а жизнь калечила, ломала его, сделала его издерганным, больным. Больным... Да и каков бы он ни был, он все-таки надеется на ее помощь. Ждет сейчас. В конце концов это ее работа. Просто теперь она уже знает, с кем имеет дело, и должна соответственно вести себя — строго, сухо, по-деловому. И ведь всего месяц, а там — прощайте, господин Достоевский...