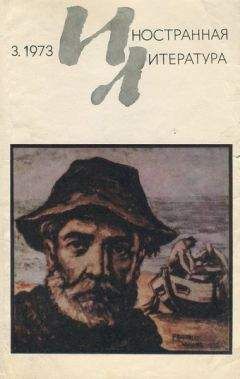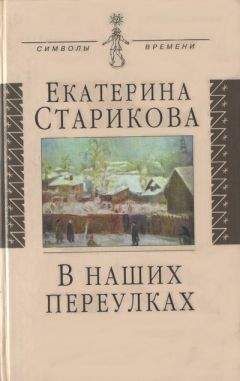ни они сами, ни их дом за годы войны не пострадали. Однако вокруг было много разрушений, поскольку рядом находился военный аэродром и его во время войны бомбили. Там я впервые увидел дома, разрушенные авиационными бомбами. Это было очень страшно.
Но это было через пять долгих лет. А пока что, осенью 1940 года, мы вернулись из Каламаки в Психико и стали устраивать жизнь на новом месте.
В доме номер 17 по улице Хрисантемон бок о бок с нами жили весьма интересные люди. Сейчас или чуть позже я расскажу немного обо всех.
Я хорошо помню мою няню Деспину, происходившую с острова Наксос.
В то время все более или менее благополучные афинские дома имели прислугу из провинции – с островов или из деревень материковой Греции. Эти люди, особенно женщины, обычно оставались в семьях своих хозяев на всю жизнь и становились практически членами этих семей. Наша Деспина появилась у нас в семье, когда я родился, и прожила с нами несколько лет, помогая маме растить меня и Элви, а потом уехала к себе домой на Наксос. Я ее прекрасно запомнил, потому что она была очень хорошая.
Позже Деспина прислала себе замену – свою внучку с тем же именем, которое мы переиначили на свой лад, превратив в Деспину́. Деспину́ было тогда лет пятнадцать, и она два или три года работала у нас как помощница по всем домашним делам. До Деспину́ у нас ненадолго появилась столь же юная девица из Каритены, по имени Политими. Для меня, четырех-пятилетнего мальчика, Политими стала идеалом женской красоты. Я помню, как следовал за ней по комнатам дома, когда она по очереди закрывала в них окна и зажигала камины. Пока разгорался камин в кабинете отца, я усаживался с Политими в отцовское кожаное кресло, обнимал ее руками за шею и был счастлив, ощущая себя совсем взрослым. Конечно, моя мама это быстро прекратила.
Вообще, можно без преувеличения сказать, что наш новый дом оказался микрокосмом тогдашней Греции и в огромной степени театром. Семья, у которой мои родители арендовали и потом купили полдома, была из Константинополя.
Это были муж и жена Атанасиос и Пенелопа Эфстратиадис, а также их дочь Маро, впоследствии вышедшая замуж и носившая фамилию Папандропулу.
В Константинополе Атанасиос был крупным дельцом, производившим операции на международном нефтяном рынке. Он встретил шестнадцатилетнюю франко-левантинку Пенелопу, когда та работала певицей в одном из местных кафешантанов и состояла фавориткой у некоего влиятельного паши.
Атанасиос влюбился без памяти, умыкнул красотку вместе с вещами и погрузил ее на эгейский парусник «каик», шедший в сторону Греции. Вместе с Пенелопой он прихватил и большой контейнер для оливкового масла, который предварительно доверху загрузил золотыми монетами. В Афинах именно на эти деньги Атанасиос купил одно из главных зданий на известной площади Омония, где он держал свою контору, а также дом 17 по улице Хрисантемон, где родилась Маро и где позже стала жить и наша семья.
Маро рано убежала из дома, выйдя замуж за красивого парня из Патраса, который учился на инженера-строителя. С началом войны этот парень, Харилаос Папандропулос, был призван в армию и отправился воевать на Ближний Восток.
Маро вернулась к родителям в Афины и вскоре родила мальчика. Этого мальчика, Танасакиса, или как его все звали, Накиса, я увидел первый раз младенцем в коляске, в нашем садовом домике, куда мы ходили по воздушной тревоге прятаться от итальянских самолетов, с конца октября 1940 года бомбивших военный аэродром Татой и порт Пирей. Кстати, когда Накис вырос, он стал известным журналистом и даже руководителем двух европейских союзов журналистов – работников печатных и электронных СМИ.
Я также помню, что, когда мы впервые пришли в наше импровизированное убежище, мы обнаружили там незнакомую полосатую кошку, только что родившую пятерых или шестерых котят. В какой-то момент кошка, утомившись от созданного нами шума и гама, взяла за холку одного из котят и понесла его в наш дом. Таким же образом она методично перенесла к нам в детскую комнату всех своих новорожденных. Разумеется, вся компания осталась у нас жить.
Кошка-мать получила от моей мамы кличку «Трисевгени» («Трижды аристократка») и стала ее любимицей. Я помню детей Трисевгени: белоснежного Аспрулиса, с годами превратившегося в вальяжного кота, лениво надзиравшего за порядком в доме, и особенно серого в белых пятнах Пицициса, который выбрал моего отца своим хозяином, спал у него в ногах на кровати, и каждый день встречал с работы на автобусной остановке. (К началу войны папа уже распрощался со служебной машиной и пользовался городским транспортом.)
Эта картина до сих пор стоит у меня перед глазами: впереди, словно знаменосец, медленно шествует кот, как бы сигнализируя, что ведет отца домой и что пора накрывать на стол. За ним, с газетой под мышкой, мой отец. Отец, как правило, возвращался из издательства примерно в одно и то же время, но я до сих удивляюсь тому, как точно Пицицис соображал, когда наступало время покидать дом и двигаться к автобусной остановке. Когда я и Элви были детьми, мы, конечно, считали, что животные думают и чувствуют, как люди.
Говоря об обитателях нашего дома, нужно упомянуть еще о трех живших с нами людях, к двум из которых я питал и до сих пор питаю глубокое уважение.
Я уже писал о походах в садовый домик. Там жили садовник Костис Мартакис, который, кроме нашего общего сада, работал еще в каменоломне неподалеку, на склоне горы Турковунья, и его жена Гарифо. Костис приехал в Афины с острова Хиос, а Гарифо была беженкой из Малой Азии. У нас на Хрисантемон она работала кухаркой на две семьи – нашу и семью Эфстратиадис.
Гарифо очень вкусно готовила и в зрелые годы, уже после смерти Костиса, поехала работать кухаркой в семью богатого судовладельца-хиота, жившего в Нью-Йорке. Она была в курсе всех дел нашей семьи, но никогда этим не злоупотребляла и вообще была очень честной и порядочной женщиной. У меня сохранились о ней самые теплые воспоминания.
Столь же добрые воспоминания сохранились у меня и о человеке, арендовавшем подвал нашего дома со стороны сада. Там жил старик-беженец из Трапезунда, которого звали Корнелиус. Видимо, семья Корнелиуса была довольно богатой, потому что его племянники смогли открыть в Греции фабрику по производству носков. Сам старик говорил по-гречески, используя много понтийских выражений, и мы не всегда хорошо его понимали, но он также говорил и по-французски. Корнелиус был замечательным, стойким и морально крепким человеком. Я еще расскажу о нем чуть ниже.
Но довольно о моих домашних. Люди, окружавшие нас в