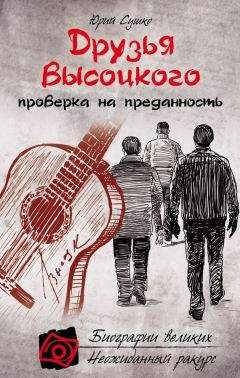Как-то московские гости заблудились в «джунглях Парижа» и с огромными трудностями набрели-таки на дорогу, ведущую к улице Рюссле. Встречая гостей у порога, Высоцкий задумчиво сказал: «Знаешь, Белла, в одном я тебя все-таки превзошел». – «Да что ты, Володя! – засмеялась измученная Белла. – Ты меня во всем превзошел!» – «Да нет. Я ориентируюсь на местности еще хуже, чем ты…»
Но, конечно, легендарный ресторан «Распутин» Высоцкий, безусловно, мог отыскать даже с закрытыми глазами. Он водил туда гостей слушать Алешу Дмитриевича. Иногда к ним присоединялся Костя Казанский, Костя-болгарин, великолепный аранжировщик и гитарист, с которым Владимир как раз в те дни работал над записями своего будущего парижского диска.
К ним за столик после своего выступления подсаживался колоритный Алеша Дмитриевич, представитель великой династии, ублажавшей своим искусством не одно поколение русской эмиграции. Слушая его, Ахмадулина шептала Высоцкому: «Господи, Володя, на каком языке он поет?! Давай напишем ему слова!» А Владимир отвечал: «Оставь, Белла, это его язык, русский. Язык Алеши Дмитриевича!»
Бывало, после «Распутина» всей компанией они отправлялись в другой русский ресторан, «Царевич», – «французские бесы – большие балбесы. Но тоже умеют кружить!..» — где блистал патриарх ночного Парижа Владимир Поляков…
Когда наконец все оказывались в домашнем тепле на rue Rousselet, «темой наших разговоров, — вспоминал Мессерер, — всегда становилась одна: как сделать так, чтобы Володя мог подольше оставаться в Париже. Занятость Высоцкого в любимовском театре была чрезвычайно высокой. Из Москвы то и дело раздавались звонки с требованием приезда на очередной спектакль. Особенно часто тогда шел «Гамлет». Без участия Высоцкого спектакль был немыслим. Потом Володя возвращался, пару дней осматривался, в лучшем случае давал один-два концерта и должен был вылетать обратно в Москву. Больно было смотреть на это существование урывками…»
В московском доме у Беллы Ахатовны хранился волшебный шарик. Подарил его один немецкий поэт-переводчик. Однажды она заметила, что в этом шарике что-то есть. Дети в него глядели, уходили с ним куда-то, загадывали какие-то свои желания. Некоторые исполнялись, и это называлось «сиянием стеклянного шарика». Перед поездкой во Францию Ахмадулина «попросила стеклянный шарик» исполнить мечту – дать ей шанс поклониться Владимиру Набокову. И такая встреча состоялась!
«Когда мы, вопреки положенному сюжету судьбы, – делилась своими впечатлениями Белла, – оказались под Рождество в Париже, я, совершенно ни на что не рассчитывая, написала письмо Набокову, всю ночь писала, никак не полагая, что я его увижу. Тем не менее мне сразу же позвонила его сестра, сказала, что ее брат сразу же заметил мое письмо и приглашает нас к себе… Я любовалась Набоковым, восхищалась им и поражалась, как величие этого человека совпадает с его обликом, образом…»
Потом, по возвращении в Париж, будучи на балете Бежара, Белла Ахатовна обратила внимание, что маэстро в роли короля Лира вышел на сцену с шариком, подобным ее собственному, только побольше. Ей объяснили, что этот шар считается гадательным, предсказательным. «Но у меня была игрушка, – ясно видела Ахмадулина, – а вот то, что держал в руках Бежар, это совсем другое. Конечно, магия есть. Есть эти таинственные силы – силы, связывающие сердца. А иначе – зачем все?..»
* * *
«Я имела счастье числиться в его товарищах, – с гордостью не раз повторяла Белла Ахмадулина, вспоминая Высоцкого. – При мне он нисколько не тушевался. Я уверена, что свое место он знал и знал, что место это единственное. Но при этом он искал суверенности, независимости от театра, от всего, чему он что-то должен. Ему, конечно, больше всего хотелось писать… Он искал подтверждения своей литературности…
О, если бы вы только знали, как желала я тогда, чтобы его печатали! Как вредило ему, что стихи не печатались. Он вытягивал голосом по три варианта строки, а решения – ни одного…»
Наконец, улучив подходящий момент (Белла выяснила, что составителем очередного выпуска традиционного альманаха «День поэзии» будет Петр Вегин, «проверенный, наш товарищ», а главным редактором Евгений Винокуров, тот самый ее наставник по литстудии при ЗИЛе), Ахмадулина передала Вегину подборку стихов Высоцкого. При этом уговаривая, объясняя, что это непременно надо пробить.
– Беллочка, что же ты меня-то агитируешь? – возмущался Петр. – Ты лучше подготовь свои стихи…
– Ах да!.. Но ты не забудь. Богом тебя прошу, не забудь про Володины стихи…
Интрига удалась. И Винокуров, умница, оказался на высоте. Прикинув, что к чему, сказал: «Попробуем. Сделаем вид, что мы не знаем, кто такой Высоцкий…» Правда, подписывая альманах в печать, главный редактор издательства «Советский писатель» Карпова вымарала две строфы из «Дорожного дневника». Ахмадулина переживала: «Оно было искажено, что-то там выкинули…»
Но, тем не менее, ура! В печати – «День поэзии 1975» – впервые появилось большое стихотворение поэта Владимира Высоцкого «Ожидание длилось, а проводы были недолги…», стихотворение! – а не просто текст песни с нотами «О друге»… Автор ликовал: «Размочили!» Но Белле устало выговаривал: «Ну, зачем ты это делаешь?»
В какой-то момент Ахмадулиной казалось, что ее союзником в «деле Высоцкого» может стать поэт Луконин. Михаил Кузьмич был человеком влиятельным и авторитетным, входил в состав правления Союза писателей СССР, возглавлял столичную писательскую организацию, и в то же время был простецким, с юмором мужиком.
Волей случая оказавшись в гостях у радушных Лукониных, Белла, как бы между делом, завела разговор с Михаилом Кузьмичом, Мишей, о непростой судьбе Высоцкого, о его проблемах с публикациями. Обстановка располагала, тосты следовали один за другим, сердечная подруга поэта Аня расстаралась, накрыв прекрасный стол. Да и сам Луконин казался Белле и Борису всепонимающим человеком.
Белла говорила:
– Миша, может, можно как-то Высоцкому помочь – он беззащитный человек, как все актеры, подвластный режиссеру. Но в театре ему уже разрешают петь его песни со сцены. Это уже немало, значит, нет полного запрета на его творчество. Пластинки хоть понемногу, но выходят. Вот в «Дне поэзии» напечатаны его стихи. Может быть, все-таки примете его в Союз писателей?
– Только через мой труп! – отрезал Луконин.
«Понять отказ Луконина мы не могли, – вспоминал свое разочарование Мессерер. – Было очевидно, что стихи Пастернака не должны ему нравиться… Со стихами Бродского он вряд ли был знаком… Но почему он при этом не воспринимал стихи Высоцкого, было непостижимо. Я думаю, разгадка в том, что он был насквозь проникнут советской идеологией…»