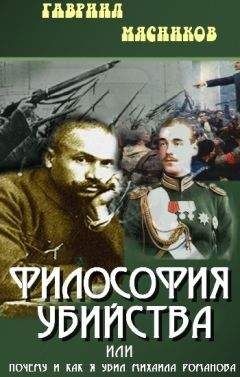«Вчера в камере подследственной тюрьмы у русского террориста Дмитрия Мирского был приступ сумасшествия», — уведомляла своих читателей берлинская «Локал анцейгер» 14 февраля 1908 года. Через день «русского террориста» вели в Берлинский суд.
Сколько любопытных взглядов! Цепочка полицейских разделила зал суда на две половины: слушателей и судей.
Камо сдержан, спокоен, безучастен, на лице выражение глубокой тоски, боли и горя. Когда ему указали на скамью подсудимых, он неистово ринулся туда, бросив на Оскара Кона, своего адвоката-опекуна взгляд, полный ужаса.
Потом уже, много времени спустя, Оскар Кон расскажет своим близким и русским товарищам: «Я был поражен, я не мог сосредоточиться, не мог поверить, что он не сумасшедший, что он всего лишь играет. Он артист, великолепный артист!»
За длинный стол, покрытый черным сукном, сели оракулы немецкого правосудия: председатель — советник окружного суда Масман, представитель прокуратуры — Фиген. Вместе с Оскаром Коном Камо защищал и адвокат Клебанский. В качестве медицинских экспертов выступили медицинский советник Гофман, доктор Мюзам, химик, доктор Герман Каст, переводчица Ольга Харшкампф. Не поленился и пожаловал сюда следственный эксперт, начальник политической полиции Хенингер. Были приглашены свидетели, в их числе и комиссар по уголовным делам фон Арним, по приказу которого был арестован Камо.
«Настоящее созвездие», — разглядывая их, с иронией подумал Камо, уловив подбадривающий взгляд Оскара Кона.
— Вы утверждаете, что являетесь Дмитрием Мирским?
Камо посмотрел на спрашивающего, поднялся, снова сел и, пошевелив губами, тихо произнес:
— Да.
— Расскажите о себе. Кто вы?
— Не знаю.
— Где вы сейчас находитесь?
— Мне двадцать шесть — двадцать семь лет. Родился в России. Жил в Тифлисе.
— Что вы можете сказать о взрывчатых веществах, обнаруженных у вас в чемодане?
— Полиция, воры. Ах, как вы меня мучаете! Я очень устал…
— Есть ли в Москве река?
— Да.
— Как она называется?
— Не знаю.
— Когда вы были в Петербурге?
— Не знаю.
— Что вам там нравится?
— Памятник Петру Великому, Невский, проспект.
— Вы социал-демократ?
— Да, русский социал-демократ.
— Какая разница между русским социал-демократом и немецким?
Камо пожал плечами.
— Садитесь. Доктор Гофман, у вас есть вопросы?
— Разрешите? — сказал доктор.
— Прошу.
Гофман обратился к Камо.
— Где вы жили?
— В Тифлисе.
— Не страдали ли психическими заболеваниями ваш отец или мать?
— Спросите у них.
— Мы о нем пока мало знаем, — обратился к председателю суда Гофман. — Сомневаюсь, что он в состоянии участвовать на заседании суда. По-немецки совсем не понимает, на русском, как говорит фрау Харшкампф, изъясняется плохо.
— Разве в подследственной тюрьме вы не наблюдали за его поведением? — недовольно спросил председатель.
— Наблюдал. Ничего странного в нем не замечалось. Шестого февраля он беседовал со своим адвокатом, а седьмого у него начался приступ сумасшествия. Возможно, что разговор между ними подействовал на его психику. Вероятно, адвокат сообщил ему, что он совершил тяжкое преступление и его ждет длительное тюремное заключение?
— Я протестую, — не вытерпел Оскар Кон. — Ничего подобного я не говорил, хотя тоже заметил в нем психические отклонения.
— Сядьте, господин Кон, — сдержанно сказал председатель и повернулся к Гофману. — Дальше, господин советник.
Дальше. Камо прекрасно помнил, что произошло дальше. Он стал буйствовать, его увели в камеру буйно помешанных. Он снова с умалишенными, они кусали друг друга на глазах у безучастных надзирателей. Взялся за гуж, не говори, что не дюж. Играй до конца. Не забывай, что за тобой отовсюду следят. Будь крайне осторожен, обдумывай и взвешивай каждый свой шаг.
— Когда на следующий день я навестил его, — продолжал доктор Гофман, — он был почти гол, сидел в кальсонах и рубашке, неухоженный, отрешенный. На мои вопросы не отвечал, дрожал весь, боялся меня. А во время моего второго посещения он не переставая вопил: «Кара, кара, кара!» Видимо, мы действительно имеем дело с душевнобольным. Хочу обратить ваше внимание на одно обстоятельство. Иногда он совершенно здоров, и хочется прекратить опыты. Но он тут же огорошивает нас своими фокусами. Если арестант отказывается от еды, мы три дня не придаем этому значения. За три дня от голода не умирают. Лишь на четвертый день мы приступаем к искусственному питанию, — доктор взглянул на Камо.
На четвертый день ему принесли молоко. Четвертый день он крошки в рот не брал, стенки желудка напряглись, как струна. Что за ужасная штука — голод! Камо опять хотел отказаться от еды, но увидел зонд. Будут кормить через зонд, насильно разжимать зубы, если вздумает сопротивляться. И он крикнул: «Выпью, выпью!»
— Налицо столько противоречивых фактов, что я не могу придти к определенному заключению, — сказал Гофман. — Однако я сомневаюсь, что он в состоянии участвовать в судебном разбирательстве.
Доктор сел.
Судья Фиген попросил слово.
— Предлагаю отложить заседание и вновь подвергнуть его психическое состояние медицинскому осмотру. Доктор Гофман уважит нашу просьбу и со своими коллегами продолжит наблюдения, пока не установит окончательный диагноз.
Суд решил отложить дело на неопределенный срок, до окончательных выводов доктора Леппмана.
Камо торжествовал.
Кон тоже.
Это значит, что его переведут в психиатрическую лечебницу в Герцберге. Герцберг — надежда на победу.
И на побег.
В камере Моабитской тюрьмы невозможно проводить медицинские исследования. Необходимо перебраться в психиатрическую лечебницу.
Берлинского полицай-президента фон Ягова нелегко было уломать.
— Я в эти штучки не верю. Хотел бы я поглядеть, что это за душевнобольной, у которого в чемодане взрывчатые вещества.
Он встал из-за стола, продолжая сверлить взглядом, адвоката Оскара Кона, явившегося к нему на прием.
— Господин адвокат, объясните, пожалуйста, только честно, почему вы так заинтересованы в судьбе совершенно чужого вам человека?
— Господин полицай-президент, с таким успехом тот же вопрос я могу задать и вам. Однако я более вас должен быть заинтересован, и это вполне понятно. Мы никогда не изменим нашим принципам, в какой бы стране ни были. Но есть одна тонкость, которую вы не хотите признать: это честь Германии, которую мы роняем, затеяв настоящий процесс.
Фон Ягов не ответил.
— Прошу вас, подумайте. Подорванный авторитет факт нежелательный.